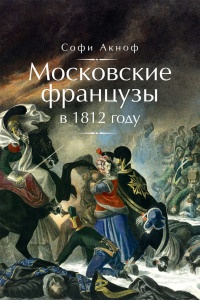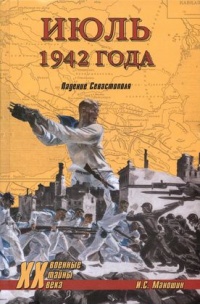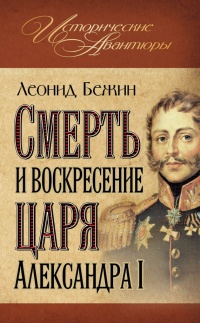Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У месье Альфана была высокая, представительная фигура, умное лицо и истинно французская любезность. Его жены во время моего первого визита не было дома, и мне пришлось дать слово, что на следующий день я приду к обеду. Сидя за столом, украшенном севрскими вазами с живыми цветами (меня поразило, что, согласно новой моде, на отполированном до блеска столе не было скатерти, а под каждой тарелкой лежала отдельная кружевная салфеточка), я вспоминала поговорку: «День на день не приходится». Меню обеда тоже значительно отличалось от того, что нам подавали в ДПЗ, — суп «Joie du prisonnier» на первое и «Petits poissons vierges» на второе[122]. Рыбки были vierges потому, что ни одна рука к ним не прикасалась, чтобы их выпотрошить.
За столом я оказалась в центре всеобщего внимания: пили за мое здоровье, выражали надежду, что я недолго пробуду в Саратове, вспоминали тетку хозяина дома m-me Barriquand, у которой я гостила в Ментоне, будучи девочкой, и его кузин — барышень де Жерюс.
Прощаясь с Альфанами, я попросила передать Диме кольцо с аксаковским гербом, которое я давно перестала носить, а маме и Татьянке — последнюю открытку Шурика, несколько сохранившихся его фотографий и лицейскую портупею с написанными на ней именами его товарищей по 71-му курсу.
На следующий день Борис усадил меня на Павелецком вокзале в вагон с надписью «Москва — Саратов». Открылась новая страница моей жизни, речь о которой пойдет в следующей главе.
Дворяне шумною толпой
По Эсэсэрии кочуют…
Весною 1935 года на улицах Саратова можно было видеть группу прилично одетых людей, с мужеством отчаяния стучавшихся во все ворота в поисках квартиры. Это были высланные ленинградцы. Так как селиться в коммунальных домах им, не имеющим обычных паспортов, было запрещено, они искали пристанища на окраинах, в поселках с маленькими, частновладельческими домами.
Бывали случаи, когда на стук выходили хозяева, говорили, что квартиры не сдают, но, видя огорченные лица, добавляли: «Спросите у шабров!» Неопытные ленинградцы усердно искали по улице дом Шабровых, пока не узнавали, что слово «шабры» на местном наречии означает «соседи».
В конце концов, платя безумные цены за жалкие лачуги, все как-то разместились и многие перезнакомились. Знакомства происходили главным образом в трех местах: в комендатуре НКВД, где ленинградцы обменивали путевки на карточки желтоватого цвета и потом три раза в месяц эти карточки регистрировали; на главном почтамте, где получали письма и денежные переводы «до востребования», и в столовой Дома ученых — где они питались (пока были деньги). Дом ученых помещался на главной улице, в доме дедушки моей belle-soeur Татьяны Николаевны — Нессельроде. Столовую, ввиду наплыва приезжей публики и наступления тепла, устроили в одном из дворовых помещений, не то в сарае, не то в гараже.
Устроиться на службу ленинградцам (за исключением специалистов высшей марки, как, например, профессора Скобельцын и Орлов) было очень трудно. Встречали их любезно, но как только узнавали, что они «репрессированные», им столь же любезно отказывали. В лучшем положении находились люди, у которых в руках было какое-нибудь «ремесло».
В Саратове оказался известный ленинградский или, вернее, петербургский зубной врач Юргенс (медная дощечка с его именем долгие годы красовалась на улице Гоголя). В ДПЗ я познакомилась с женой его старшего сына, впоследствии высланной в Архангельск; старик же Юргенс попал в Саратов со своим вторым сыном и его многочисленной семьей.
Усольцева, умевшая шить модные мягкие корсеты, открыла мастерскую под смехотворным названием «Ленинградская мастерская художественного оформления женской фигуры» и имела несомненный успех. Дочь m-me Рындиной, учившаяся в хореографической школе при Мариинском театре, поступила в балетную труппу театра Чернышевского, а обретенные мною в Саратове брат и сестра Ланские (Варенька училась в Дворянском институте вместе с Лялей Запольской, а ее брата Николая Михайловича я встречала на московских вечерах) рисовали прелестные миниатюры с видами Ленинграда. Окантованные под стеклом, эти рисунки охотно раскупались.
В качестве лиц, обладавших скорее ремеслом, чем специальностью, я назову двух барменш — Музу из «Астории» и Марго из гостиницы «Европейской». Эти молодые особы, по-видимому, попали в ссылку за «связь с иностранцами», которым они готовили коктейли. Марго была грузной двадцатилетней армянкой, добродушной и очень глупой. Муза представляла полную ей противоположность: довольно элегантная блондинка, она обладала красивыми голубыми глазами, выдающимся вперед носом (за что была прозвана «стерлядкой») и привлекала взоры мужчин, обедавших в столовой Дома ученых. Это было очень кстати: в Саратове не было ни баров, ни коктейлей и Муза и Марго стремились заручиться «мужской поддержкой».
Теперь, кратко обрисовав общие условия, в которые попали высланные ленинградцы, я могу перейти к себе лично.
Первую по приезде в Саратов ночь мне пришлось просидеть на вокзале. На второй день в комендатуре НКВД я встретила пожилую ленинградку пани Адамович, особу словоохотливую и отзывчивую, которая приняла во мне участие. Живя в железнодорожном поселке, отделенном от вокзала висящим над путями мостом, эта дама устроила меня по соседству с собой у преисполненной претензий польки пани Виктории, коренной жительницы Саратова. Имея крышу над головой, я уже могла искать что-нибудь более подходящее, и в середине лета мне удалось занять более приятную комнату в том же поселке, на углу улиц Ленина и Большой Садовой, у людей, с которыми я делила и горе, и радость в течение двух лет моего пребывания в Саратове.
Хозяин дома Дмитрий Никитич Спирин был слесарем железнодорожных мастерских и внешне напоминал рабочего с плаката: высокий, жилистый, с несколько изможденным и перепачканным угольной пылью лицом. Характер соответствовал внешнему виду и был довольно мрачный, но меня это не затрагивало, во-первых, потому что лично ко мне хозяин относился очень хорошо, а, во-вторых, потому что главную роль в доме играла его жена Надежда Прокофьевна, полная добродушная женщина лет пятидесяти. За Спирина она вышла (на свое несчастье) сравнительно недавно, но у нее были взрослые дети от первого мужа по фамилии Михайловские, и среди них старший сын-хирург.
Я часто задавала себе вопрос, из какой семьи происходит Надежда Прокофьевна, у которой в добавление к природной доброте имелась несвойственная мещанской среде широта взглядов. И вот, в ходе разговоров, выяснилось, что дед Надежды Прокофьевны по фамилии Ольшанский служил фельдфебелем в одном из гвардейских полков, так что детство моей хозяйки протекало в казармах, «на одной из прилегающих к Неве улиц». Ей также были хорошо известны окрестности Петербурга, о которых она с восторгом вспоминала.
Мои догадки о не совсем обычных истоках семьи Надежды Прокофьевны уже получили некоторое обоснование, как вдруг я снова была сбита с толку, услышав, как Спирин в пылу ссоры попрекает жену «еврейским происхождением». Я, может быть, и до сих пор была бы в недоумении, стараясь «совместить несовместимое», но, читая «Пятьдесят лет в строю» Игнатьева, напала на место, имеющее прямое отношение к интересовавшему меня в Саратове вопросу.