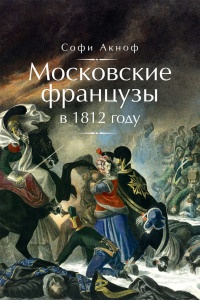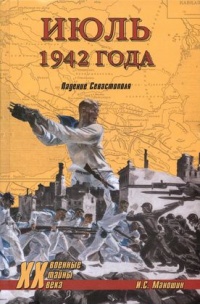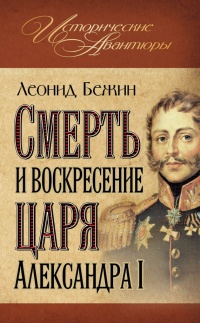Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В самом начале апреля (числа я не помню, но знаю, что эта была суббота 3-й недели Великого поста) я уже улеглась спать. Покрывшись маминым пальто и сунув нос в котиковый воротник, еще немного сохранивший запах парижских духов, я думала о том, что во всех церквах сейчас идет торжественная Всенощная с выносом креста, и вдруг услышала: «Аксакова! С вещами!» Вся камера пришла в движение. Вызов с вещами вечером был хорошим симптомом — на этап вызывали днем. Пока я собиралась, меня целовали, поздравляли, заваливали поручениями, но в коридоре уже стоял конвоир и кричал: «Давай, давай!» За пределами камеры ко мне присоединились еще несколько женщин; мы долго шли по каким-то переходам и наконец очутились в подвальном сводчатом помещении, где было много народа. Из толпы вышел очень милый старичок и сказал: «Прежде всего надо успокоить дам! — И, обращаясь к нам: — Не тревожьтесь, мы все сейчас выйдем на свободу!»
Когда я немного освоилась, в толпе увидела всех трех Львовых, приведенных из разных камер. Мы еще не знали, на каких правах мы здесь находимся и можем ли разговаривать, но Владимир ловким маневром сразу очутился возле меня.
Через некоторое время всех нас, и мужчин и женщин, стали вызывать к столу, где брали подписку о невыезде и обязывали явиться к 12 часам дня на следующий день за дальнейшими директивами. Это значило, что какое-то «продолжение будет следовать», но думать об этом не хотелось. Когда после всех формальностей нас выпустили наконец на Шпалерную улицу, Володя, предоставив своим братьям идти, куда они хотят, подхватил меня под руку, забрал мой чемоданчик с вещами, и мы пошли по направлению к Неве.
Погода была тихая, туманная. Первое время мы ничего не говорили, мы только дышали этим свежим, влажным воздухом, от которого немного кружилась голова. Подойдя к Литейному мосту, мы сели на скамейку. Кругом была полнейшая тишина, фонари тускло мерцали сквозь туман. Володя обнял меня за плечи и сказал: «Ну что же, Таточка, давай поцелуемся!» Потом мы перешли мост, у Финляндского вокзала еще был открыт продовольственный магазин. Мы сосчитали, сколько у нас — у того и у другого — денег. Хватило на плитку шоколада, которую мы тут же разломили пополам и съели, после чего направились на улицу Красных Зорь. Тут оказалось, что на двери моей комнаты висит печать, войти нельзя, и мне пришлось ехать ночевать к Леонутовым на Бассейную. Володя отправился на Охту с тем, чтобы на следующее утро вместе со мною идти узнавать о нашей дальнейшей судьбе.
Придя на следующее утро уже с некоторым количеством денег в кармане, он решил, что перед Шпалерной нам надо хорошенько поесть. Мы направились в гостиницу «Северную» против Московского вокзала, заказали какой-то суп, мою любимую курицу с рисом, мороженое и бутылку вина и, подкрепившись, пошли в канцелярию ДПЗ, где узнали следующее: I. Львовы в числе одиннадцати человек — родители Сергей Евгеньевич и Зинаида Петровна, тетушка Мария Евгеньевна, Сергей Сергеевич с женой и двумя детьми, Юрий Сергеевич с женой и ребенком и Владимир Сергеевич — высылаются в город Куйбышев сроком на пять лет. II. Аксакова Татьяна Александровна высылается на тот же срок в город Саратов. На сборы дается три дня, после чего жилплощадь высланных поступает в распоряжение НКВД.
Паспортов нам не возвратили, а дали предписание явиться по месту высылки к такому-то (весьма близкому) числу. Ехать можно было за свой счет — неимущим предлагали передвижение по этапу. Мы были ошеломлены, но в окружающей нас толпе говорили, что мы можем считать себя счастливыми. Пока мы сидели в тюрьме, первые партии высылаемых ленинградцев отправились в Северный Казахстан, Тургай, Челкар, Актюбинск — нам же досталось Поволжье.
Говорят, что Леонид Утесов отозвался на это мероприятие вариантом своей песни: «Сердце»:
Но это был юмор, тогда как ликвидировать свою квартиру, то есть обставляющие ее вещи, в трехдневный срок — было драмой. При общей панике никто ничего не покупал, рояли «Бехштейн» шли по 250–300 рублей. Все знакомые находились — или могли находиться — в таком же положении.
Меня осенила мысль попросить одну мою заказчицу по вышивкам, бывшую замужем за литератором Стеничем (Сметаничем) и имевшую большую и довольно пустую квартиру в Чебоксарском переулке, против Перовской больницы, поставить к себе главную часть вещей. Она согласилась, и мебель была перевезена к Стеничам. Более мелкие вещи — картины, гравюры, фарфор и книги — взяла к себе Нина Адриановна.
Вспоминаю, что не проявляла в ту пору должной активности. После тюремного напряжения наступила реакция. Я лежала на кровати, а потом, когда ее унесли — на полу, в какой-то прострации. Укладывали, упаковывали, нанимали транспорт сплотившиеся вокруг меня дружественные силы в лице Александры Ивановны, Леонутовых, Иваненко и, конечно, Владимира Сергеевича, который не покидал меня во время разгрома. Только в день моего отъезда, когда комната опустела и вещи, идущие со мной в Саратов, были отправлены на вокзал, он переключился на ликвидацию жизни в Тайцах. Помню, что мы с ним расстались на Ситном рынке, где ему нужно было купить веревки и другой упаковочный материал. Простившись, он крикнул мне вслед: «Скоро увидимся!» Надежд на это было мало.
Но я забыла рассказать, каким образом с моей двери сняли печать и я вошла в свою комнату. Получив в ДПЗ путевку в Саратов, я заявила о желании попасть к себе домой, и тут увидела моего соседа по квартире, сотрудника НКВД, который предложил мне сесть с ним в машину и ехать на улицу Красных Зорь, где он своей правомочной рукой сорвал печать. Потом он исхлопотал мне один лишний день пребывания в Ленинграде. (В виде компенсации за эти любезности он сразу занял мою комнату, предоставив в фонд своего учреждения свою, которая была меньше и хуже.)
Когда дверь открыли и я вошла к себе, то увидела следы произведенного в мое отсутствие обыска. Книги лежали в беспорядке, из письменного стола исчезла вся переписка, многие альбомы и фотографии (в том числе прекрасный и единственный портрет Павлика Леонутова). То, что оставалось в 1935 году, столь же нелепо пропало в 1937-м, и теперь я принуждена писать свои воспоминания, надеясь только на свою память, правда, довольно хорошую.
Глава, в которой описывается, как и почему я покинула свой родимый город, подходит к концу, но прежде, чем приступить к изложению того, что меня ожидало в Саратове, я скажу несколько слов о моем кратковременном пребывании в Москве. Путевка НКВД давала мне возможность задержаться там на три дня, и я решила (поскольку мне уже нечего было терять!) совершить смелый поступок и зайти к старинным знакомым моей семьи Альфанам[121]. Посол Франции занимал особняк в Померанцевском переулке и, когда я вручила швейцару карточку с моим именем, встретил меня на площадке лестницы с распростертыми объятиями и возгласом: «Enfin, vous voila!» Я предполагала, что мама засыпает его тревожными письмами и теперь будет рада узнать от очевидцев о моем здравии и бодром настроении.