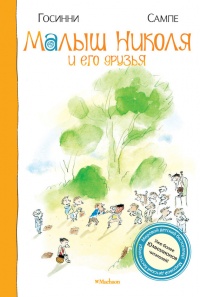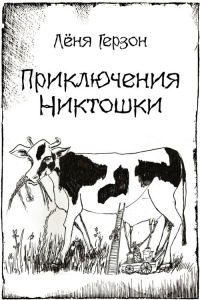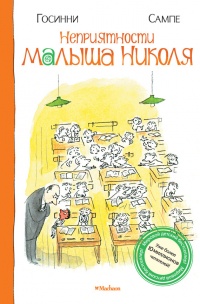Книга Зима, когда я вырос - Петер ван Гестел
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы с Пимом вместе играли в детстве, помнишь?
— Нет, — сказал я. — Зван вообще никогда не играет.
Ей понравилось, что я называю ее двоюродного брата Званом.
Я с первой минуты влюбился в Бет по уши. Но не Думаю, что она с первой минуты влюбилась в меня по уши.
— Вы со Званом просто забыли, вам было тогда по четыре годика.
— По четыре года? Нет, не может быть.
— Тебе что, никогда не было четыре года?
— Конечно, когда-то было, но ужасно давно.
— Ден Тексстрат — тебе что-нибудь говорит это название?
— Да, это тихая улица, там отлично можно играть в футбол в одиночку, там есть глухая стена.
— Ты все забыл о том времени, когда тебе было четыре года?
— Конечно, помню — я ходил тогда в христианский детский сад.
— Почему в христианский?
— Он был близко от дома, там рассказывали всякие интересные истории, ах ты господи, про Авессалома и Давида, до сих пор помню. Авессалом хотел стать царем, но царем уже был его отец, и тогда Авессалом подумал: а укокошу-ка я папу. Получилось черт знает что, Авессалому пришлось взять ноги в руки, но улепетывая, он запутался длинными волосами в кустах и там повис.
— Каким грубым языком ты говоришь! — возмутилась Бет.
— Он барахтался, как рыба на крючке, а потом Иоав пронзил его три раза копьем. Давид плакал об умершем сыне; воспитательница заливалась слезами, рассказывая об этом, а я нет — мне было просто очень интересно.
— Это хорошая история. Только очень уж много ты употребляешь грубых слов. А ты понимаешь, о чем в ней речь?
— Конечно, я же ее тебе рассказываю.
— Речь в ней идет о борьбе между отцом и сыном — о борьбе между могуществом и молодостью.
Я не понимал, о чем она.
— Это отличная история, — сказал я, — тебе она тоже нравится?
Бет рассмеялась.
— Любой сын узнаёт в ней себя, даже если сыну четыре года.
— Зван никогда ничего не рассказывает о Ден Тексстрат — она здесь совсем рядом, рукой подать.
— Да, я знаю.
От моей истории мне стало тепло и приятно. По-моему, Бет тоже разрумянилась.
— Только не разговаривай о ней с мамой или с Пимом, — сказала Бет.
— Неужели они не знают историю про Давида и Авессалома?
— Да нет же, глупенький, не говори с ними о Ден Тексстрат.
Я вытащил из кармана носовой платок, потому что струйка из носа достигла верхней губы, и снова громко высморкался.
Двумя пальцами Бет собрала крошки со стола и ссыпала их в одну из тарелочек. Я смотрел на ее бледные руки и коротко подстриженные ногти.
— Я так испугалась, — сказала она, не глядя на меня, — я так испугалась, когда услышала, что у тебя умерла мама.
— А кто тебе об этом рассказал?
— Твой папа. Я случайно встретила его на улице. И спросила: «Как поживает малыш Томми, как поживает ваша жена?»
Я вздохнул и подумал: какая вежливая девочка.
— И тогда он мне рассказал. Пиму я на всякий случай не стала говорить.
— Папа ни разу не упоминал ни о какой встрече, — сказал я. — Он никогда не рассказывает об обыкновенных вещах — о том, что происходит за углом или что он делает в городе.
— Когда я услышала, что вы с Пимом оказались в одном классе, я подумала, что, наверное, скоро тебя увижу.
И Бет смущенно засмеялась.
Я тоже смущенно засмеялся, но у меня получилось не так хорошо, мой смех был больше похож на фырканье и иканье.
— И вот ты наконец пришел, — сказала она. — Почему ты не снимаешь пальто, Томас?
Я медленно снял пальто.
Пим был ее двоюродным братом, ее мама приходилась ему тетей, и мне было запрещено разговаривать про Ден Тексстрат. Когда чего-то не понимаешь, то можно спросить, как и что, но когда ничего не понимаешь, то и спросить ничего не можешь, потому что не понимаешь, с чего начать.
За столом мы сидели втроем. И ничего не говорили.
Бет намазывала мед на несколько печений «Мария».
Зван аккуратно и медленно счистил шкурку с двух яблок. Одно из них он потом отдал Бет, второе оставил себе.
Мне он не дал ничего, хотя Бет и поставила передо мной блюдечко.
Красивыми ножичками они разрезали яблоки пополам. И каждый дал мне по половинке. Теперь на моем блюдечке лежало целое яблоко, а у них по половине.
Бет и Зван разрезали свои половинки на маленькие кусочки и съели их жутко аккуратно, не было слышно ни звука.
Я откусил кусок яблока зубами и с удовольствием услышал свое собственное чавканье — в этом доме на Ветерингсханс было слишком тихо.
Потом мы все съели по печенью с медом. Пальчики оближешь! От сухого печенья «Мария» я всегда кашляю, а «Мария» с медом тает на языке, это еще вкуснее, чем «Наполеон».
Я подумал: сразу видно, что у них за столом не каждый день сидят гости.
— У нас здесь почти никто не бывает, — сказала Бет.
Я ни о чем не стал спрашивать.
Но я не хотел, чтобы опять наступило долгое молчание.
— Понятно, — кивнул я, — но я ни о чем не спрашиваю.
Бет подмигнула мне. Зван заметил это и усмехнулся.
— Мой папа едет в Германию, — сказал я.
Они оба смотрели в свои тарелки. Зван надавил пальцем на крошку, потом облизал палец.
— Он будет работать в цензуре — читать письма фрицев.
— Зачем? — спросила Бет.
— Ведь мне нужна одежда, — сказал я.
Зван засмеялся, но Бет нет, за стеклами ее очков глаза были маленькие и строгие, она смотрела сквозь меня.
— А где будешь ты, Томас? — спросил Зван.
— Я перееду к тете Фи.
— Я рада, что ты не поедешь в Германию, — сказала Бет.
— Почему? — спросил я.
— Там живет много немцев.
— А почему ты не называешь их фрицами?
— Это слишком вульгарно, — строго сказала Бет.
Я посмотрел на Звана. Он смеялся, как всегда, неслышно, плечи дрожали, а звука не было. Я не смеялся, потому что не знал, что значит «вульгарно».
— Зван, — сказал я, — я все равно буду называть тебя Званом. Пим — это тоже классно, но Пимом тебя зовут тут дома, да ведь? А как тебя еще называют?
— Мои приемные родители звали меня Пит, — сказал Зван.
Я ни о чем не спрашивал. Мне еще объяснят, что к чему.
— А мой папа, — продолжал Зван, — называл меня Санни — сынок.