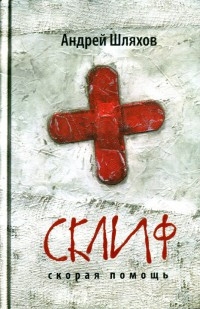Книга Грех жаловаться - Максим Осипов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Как влюбленная дура.
– Не издевайся. Да, я не ученый, но среду ученых люблю. Эйнштейн где-то выразился в том смысле, что создание ученым картины мира – сродни вере или работе художника. И не так уж принципиально, что выстроить цельную картину жизни из разрозненных элементов, обрести «предустановленную гармонию» никаких человеческих возможностей не хватит. Кстати, вот еще что: именно наблюдая за большими учеными, а я близко знаю нескольких, я понял, что ум и глупость – не противоположные свойства, скорее взаимодополняющие.
– Университет развивает все способности, в том числе – глупость. Это Чехов.
– Ага, и тут я не первый. Даже не «глупость», а «мудаковатость». Нет настоящего величия там, где нет мудаковатости. Настоящей, а не наигранной. Если тебя называют одним из умнейших людей своего времени, дело плохо.
– Поэзия должна быть глуповата.
– Вера тоже.
– И любовь.
– Само собой. Мой одноклассник, математик, он уже давно академик большой Академии, возьми тут и заяви, что не любит Пушкина. Что у того есть лишь двадцать хороших стихотворений. Так и сказал.
– Уж ты за словом в карман не полез.
– Я ему на другой день послал сообщение: «Есть выражения без смысла / В каждом языке. Сказать по-русски, / Что ты не любишь Пушкина, / Почти что равносильно / Тому, что объявить / О нелюбви к воде, огню / И остальным стихиям». Вообще, Пушкин – идеальный пример служения: Красоте, Знанию и даже Порядку и Справедливости. Да и хорошие вещи любил – посмотри, сколько их у него всюду разбросано. И отчего-то ему не приходилось все время жертвовать одним ради другого: забывать о теле ради души, о душе – ради духа.
– Главное – не это. Пушкин – веселый. При такой биографии вполне мог впасть в самый мрачный романтизм, почище лермонтовского. Но вот – не впал, остался веселым. А про ученых ты кучу гадостей наговорил.
– Чего их хвалить? Когда бы не они, так называемые «люди труда» до сих пор работали бы каменными топорами. Если бы мы каждый раз платили, когда пользуемся законами Ома или Архимеда, их наследники далеко бы обошли «Икею» с «Макдональдсом». Дело не только в практической пользе – мы не знали бы, что любое четное число равно сумме двух простых…
– Этого мы, кажется, до сих пор не знаем.
– «Краснодар спасет мир».
– Кто сказал?
– Понятия не имею. Я думал, ты.
– Ладно, пусть.
– Представляю себе: явятся инопланетяне со своим хваленым разумом – и что окажется? Пушкина они не читали, Моцарта не слышали, зато умеют воскрешать – точнее, оживлять – умерших. Я как врач и вообще их за это уважаю, но все-таки не люблю.
– Так ты понимаешь знаменитое высказывание про «спасет мир»?
– От инопланетян? Нет, нет. Действенна только красота, а не голая добродетель, вот что это значит. Привлекает красота, а не закон, загробная морковка. И проповедь Толстого гораздо доходчивее в «Войне и мире», чем в позднем занудстве.
– Красоте служат художники.
– Да, музыканты, литераторы, артисты.
– Реставраторы, режиссеры и так далее.
– Все, кто занят искусством. И не только для денег. Есть творчество, которое теряет всякий смысл, если на нем не заработать. Вот эти картонные детективы под старину. Или – можно себе представить, что кто-нибудь такое от души напишет: «Широкий простор для мечты и для жизни / Грядущие нам открывают года…»? Ребята, давайте я вам стихи почитаю.
– Ну и эрудиция у тебя, дорогой! Ладно, тут нечего и говорить.
– Да, не только для денег и не только для самовыражения.
– Трудно бывает разобраться.
– Ты мою любимую формулу знаешь.
– Формулу отца Ильи? Про саморазвитие правды?
– Да. Искусство – это саморазвитие правды, ничего больше. И оправдания красоте не нужно, особенно после «Нищих всегда имеете с собою».
– Это, вероятно, и имел в виду Тимофеев-Ресовский.
– Пресуществление духа в предметах материального мира. Материальная культура. Здесь бы надо поподробней.
– Ну, рассказывай. Талантливо.
– Ехал я тут по югу Москвы, смотрел вокруг: ни одного сколько-нибудь привлекательного предмета. Какая музыка застыла в этой убогой архитектуре? Чей дух пресуществился в уродливой рекламе, в столбах, в остановках? Почему все такое плохое?
– А за городом красивы только церкви. Из всего, что сделано руками.
– Богу – лучшее, а нам, грешным, одноразовое говно. Вот оно, монофизитство.
– Правда, все одноразовое.
– Блок про это знал еще сто лет назад – помнишь про пошлость производства? Советовал покупать только книги и самое необходимое. Посмотрел бы он, что делается сейчас. Не хватит никакого духа всю эту ломающуюся дрянь одухотворить. Как можно писать натюрморт с телефоном, когда он сломается раньше, чем краски высохнут?
– Да, точно, ломается даже то, что и сломаться-то не может.
– Подозреваю тут экономический расчет. «Век расшибанья лбов о стену / Экономических доктрин». Был я как-то на выставке старинного платья…
– С чего бы это вдруг?
– Случайно. Смотрел больше на посетительниц, чем на экспонаты. Пришло несколько веселых тетенек-ткачих. Одна и говорит: «Глядите, как делали, а ведь темные люди были! Вот у нас на фабрике – сплошной брак». И весело так засмеялись.
– И что же советовать мальчику?
– Послужить улучшению вещей.
– Да уж, лучше – вещей, чем людей. Безопасней.
– И не ради прибыли – ради самих вещей. Результатом пусть будут не деньги, а продукт. Крепкий красивый стол.
– Наконец-то в нашей философии появился стол. Так всегда излагают: «Закон отрицания отрицания. Возьмем, к примеру, стол».
– «Труд не является товаром рынка, так говорить – оскорблять рабочих».
– Помню. Бродский. «Труд – это цель бытия и форма».
– А когда труд становится товаром рынка, какое тут творчество? Она работает на швейной фабрике, он – на кирпичном заводе делает плохие кирпичи. Презирают свою работу и себя. В пятьдесят пять и шестьдесят – на пенсию, к телевизору. Помню требования шахтеров: «Чтобы зарплату платили вовремя или хотя бы с небольшим опозданием».
– Ужас.
– Проняло до слез – вот зачем они работают.
– Воля ваша, рабочим я никому не посоветую становиться. Хотя бы инженером.
– Чехов уважал инженеров. Инженеры и врачи у него наравне. «Инженер или врач Z. пришел к дяде редактору…» Это из дневников. «…Увлекся, стал часто бывать, потом стал сотрудником, бросил мало-помалу свое дело; как-то идет из редакции ночью, вспомнил, схватил себя за голову – все погибло! Поседел. Потом вошло в привычку, весь поседел, обрюзг, стал издателем, почтенным, но неизвестным».