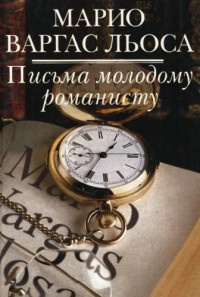Книга Сон Кельта - Марио Варгас Льоса
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако ни возникшая вскоре привязанность к чете миссионеров, ни удовлетворение, приносимое общими трудами, не давали Роджеру забыть о том, что ощущалось им с самого начала, — он здесь ненадолго. Работа, даже самая достойная и самоотверженная, обретала смысл, лишь если была проникнута той верой, что жила в душе Теодора Хорта и супругов Бентли, а у него отсутствовала, хотя он подражал выражениям их лиц и интонациям, когда читал и комментировал Священное Писание, учил африканцев катехизису или участвовал в воскресной службе. Роджер, не атеист и не агностик, был всего лишь безразличен к Богу, чье бытие — существование „первичного принципа“ — не отрицал, но и раствориться в чувстве братского единения с другими верующими, ощутить, что приведен к некоему общему знаменателю, не мог. Путаясь и смущаясь, он неуклюже попытался было объяснить все это Теодору Хорту. Тот успокоил его: „Прекрасно понимаю вас, Роджер. Господь действует своими методами. Он будоражит, беспокоит, заставит нас искать. И так — до тех пор, пока однажды не воссияет свет и нам не предстанет Он. Так и будет, вот увидите“. Но, по крайней мере, за эти три месяца подобного не произошло. И сейчас, в 1902-м, спустя тринадцать лет, отношение Роджера к религии по-прежнему так и не определилось. Лихорадка прошла, и он, сильно исхудалый, от слабости еще нетвердо держась на ногах, вернулся к исполнению консульских обязанностей. Нанес визит генерал-губернатору и другим важным лицам. Снова стал по вечерам играть в шахматы и бридж. Сезон дождей был в самом разгаре и должен был продлиться еще много месяцев. В конце марта 1889 года, когда истек срок контракта с преподобным Уильямом Холманом Бентли, Роджер впервые за последние пять лет отправился в Лондон.
— Горы пришлось свернуть, чтобы проникнуть сюда, — сказала Элис вместо приветствия и протянула ему руку. — Думала, ничего не выйдет. Однако же вот она я.
Элис Стопфорд Грин казалась человеком холодным, рассудочным, чуждым всякой сентиментальности, но слишком хорошо знал ее Роджер, чтобы не заметить, как сильно она взволнована. Голос чуть подрагивал, и ноздри едва уловимо трепетали — так бывало всякий раз, когда ее что-то тревожило или заботило. Она и в семьдесят лет сохранила девичьи-легкие очертания фигуры. Годы не тронули морщинами свежесть ее веснушчатого лица, не пригасили сияние ясных умных синевато-серых глаз. Она была одета, по своему обыкновению, с несколько чопорным изяществом — светлое платье, легкая блузка, башмачки на высоких каблуках.
— Как я рад, дорогая Элис, как я рад, — повторял Роджер Кейсмент, взяв ее за обе руки. — Я уж думал, мы больше не увидимся.
— Я принесла тебе книги, конфеты и кое-что из одежды, но на входе все отобрали. — Она скорчила легкую беспомощную гримаску. — Очень жаль. Как ты? Ничего?
— Ничего, ничего, — торопливо говорил Роджер. — Да это пустяки. Ты и так столько сделала для меня… Новостей нет?
— Заседание кабинета назначено на четверг, — ответила она. — Знаю из надежного источника, что этот вопрос стоит в повестке дня первым. Мы делаем все возможное и невозможное, Роджер. Ходатайство подписали около пятидесяти очень заметных людей. Ученые, художники, литераторы, политики. Джон Девой заверил нас, что в правительство вот-вот поступит телеграмма от президента Америки. Все наши друзья подняты на ноги, чтобы прекратить или хоть ослабить эту мерзкую кампанию в печати… Ты ведь в курсе дела?
— Не вполне, — поморщился Кейсмент. — Новости с воли сюда не доходят, а на мои вопросы надзирателям приказано не отвечать. Со мной разговаривает только смотритель, да и то исключительно чтобы как-нибудь оскорбить. Ты в самом деле веришь, Элис, что еще есть какая-то надежда?
— Конечно, верю, — ответила она твердо и с нажимом, но Роджеру все же показалось, что это ложь из жалости. — Все мои друзья утверждают, что такие вопросы кабинет решает единогласно. Если хоть один министр выскажется за помилование, ты будешь спасен. А судя по всему, твой бывший начальник, сэр Эдвард Грей[6], — против казни. Не отчаивайся, Роджер.
На этот раз начальник Пентонвиллской тюрьмы не присутствовал. В комнате для свиданий был лишь молоденький надзиратель: показывая, что не прислушивается к разговору, он тактично повернулся к ним спиной и смотрел через решетчатую дверь в коридор. „Будь все тюремщики в Пентонвилле столь деликатны, жизнь была бы легче“, — подумал Роджер. Он вспомнил, что не спросил Элис о событиях в Дублине.
— Я знаю, что после Пасхального восстания Скотленд-Ярд устроил у тебя на Гроувнор-роуд обыск. Бедная Элис. Это было, наверно, чертовски неприятно.
— Да нет, ничего особенного. Уволокли кипы разных бумаг. Частные письма, рукописи. Надеюсь, вернут, едва ли им это пригодится. — Она горестно вздохнула. — По сравнению с тем, что пришлось пережить ирландцам, это совершеннейшие пустяки.
Неужели расправы продолжаются? Роджер старался не думать о расстрелах, о гибели стольких людей и прочих последствиях этой трагической недели. Но Элис, должно быть, по глазам поняла, как ему хочется это знать.
— Казни, кажется, приостановлены, — прошептала она, бросив взгляд в спину надзирателя. — По нашим расчетам, арестовано тысячи три с половиной. Большую часть доставили сюда и рассадили в тюрьмы по всей Англии. Удалось установить, что среди заключенных — около восьмидесяти женщин. Нам помогают несколько ассоциаций. Многие британские адвокаты предложили вести их дела бесплатно.
Новые и новые вопросы роились в голове у Роджера. Сколько его друзей оказалось в числе убитых, раненых, арестованных? Но он сдержался. Зачем допытываться, если все равно ничего нельзя сделать? Все, что он узнает, только усугубит накопившуюся в душе горечь.
— Вот что, Элис… Я хотел бы, чтобы меня помиловали хотя бы по одной причине — жалко будет умереть, так и не выучив гэльский. Если казнь отменят, я возьмусь за него всерьез и обещаю тебе — в этой самой комнатке буду говорить с тобой на родном языке.
Элис кивнула, и по ее губам быстро скользнула едва заметная улыбка.
— Это трудный язык, — сказала она, похлопав его по руке. — Требует много времени и огромного терпения. А ты ведь, мой дорогой, вел очень беспокойную жизнь. Но не огорчайся — мало кто из ирландцев сделал для нашей страны больше тебя.
— Благодаря тебе, дорогая Элис. Я стольким тебе обязан. Твоему радушию, твоей дружбе, твоему уму и культуре. Эти вторничные бдения на Гроувнор-роуд, где собиралось столько необыкновенных людей и царил такой высокий дух… Это — лучшее, что было в моей жизни. Теперь я могу тебе сказать это… И поблагодарить тебя, дорогой мой друг. Ты научила меня любить прошлое и культуру Ирландии. Ты так щедро дарила мне ее, и твои уроки безмерно обогатили мою жизнь.
Он высказал то, что чувствовал всегда, и смущенно замолк. Да, с самых первых дней знакомства он восхищался писательницей и историком Элис Стопфорд Грин, чьи книги и статьи о прошлом Ирландии, о легендах и мифах как ничто другое развили в нем особое чувство „кельтской гордости“, взбурлившее с такой силой, что он не позволял шутить на эту тему даже своим друзьям-единомышленникам. Он познакомился с Элис одиннадцать или двенадцать лет назад, когда попросил ее содействовать созданной им вместе с Эдмундом Д. Морелем Ассоциации за преобразование Конго и начал публичную битву против короля Леопольда II и его хитроумного творения — Независимого Государства Конго. Именно благодаря тому жару, с каким Элис ринулась в кампанию, обличающую ужасы колонизации, так много ее друзей из числа политиков и литераторов примкнуло к ней. Элис стала наставником и интеллектуальным поводырем Роджера, который, оказываясь в Лондоне, бывал в ее салоне еженедельно. Вечера на Гроувнор-роуд собирали видных профессоров, журналистов, поэтов, музыкантов, политиков, и все они, подобно хозяйке, обличали империализм и колониализм, ратовали за предоставление Ирландии автономии, а самые радикальные — за полную ее независимость. В уютном доме, где было так много книг из библиотеки покойного мужа Элис — историка Джона Ричарда Грина, — Роджер познакомился с Уильямом Батлером Йейтсом, сэром Артуром Конан Дойлем, Бернардом Шоу, Гербертом Китом Честертоном, Джоном Голсуорси, Робертом Каннингеймом Грэмом и многими другими писателями, чьи имена были у всех на слуху.