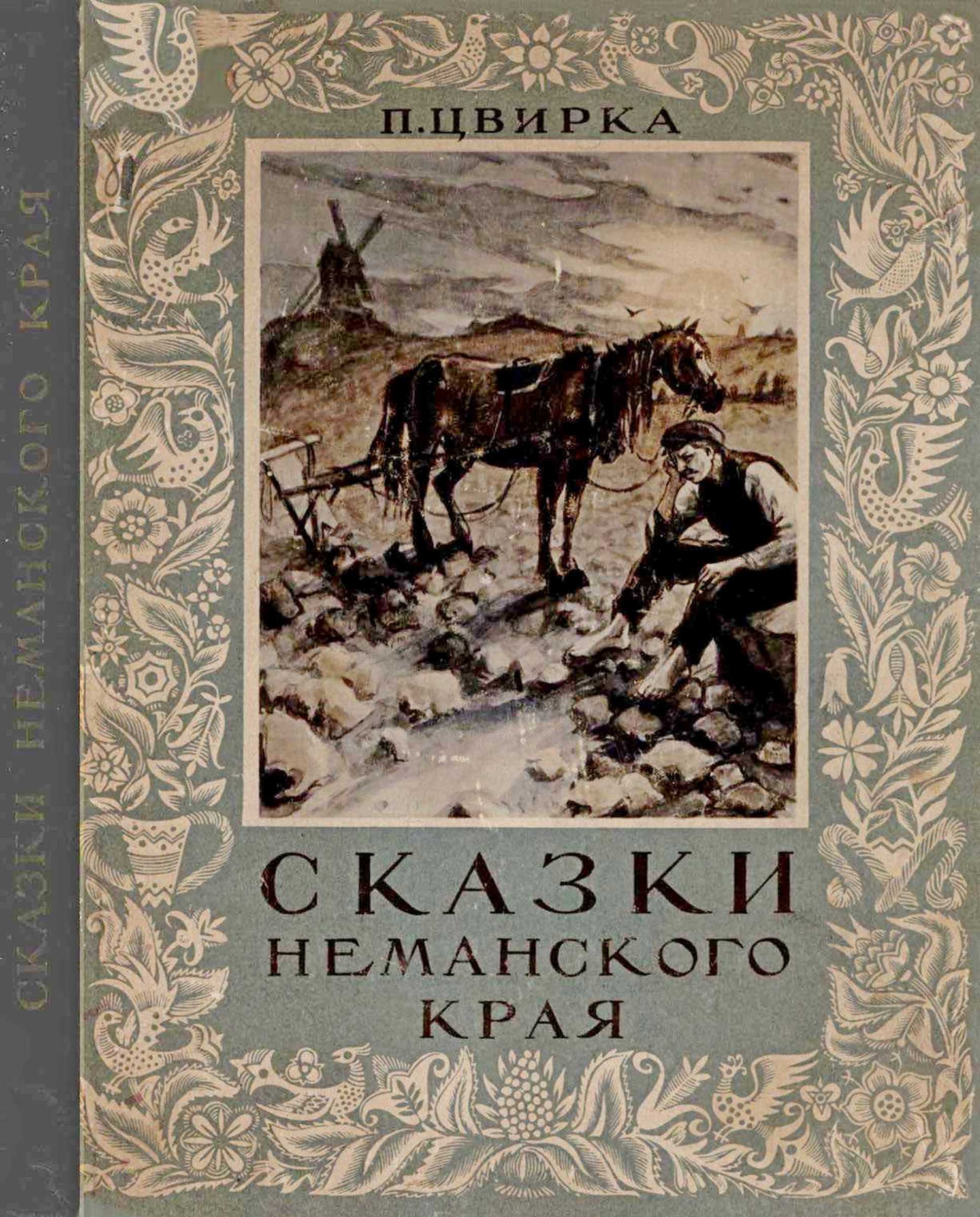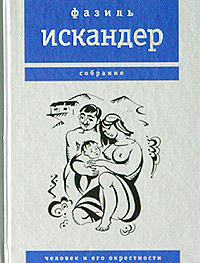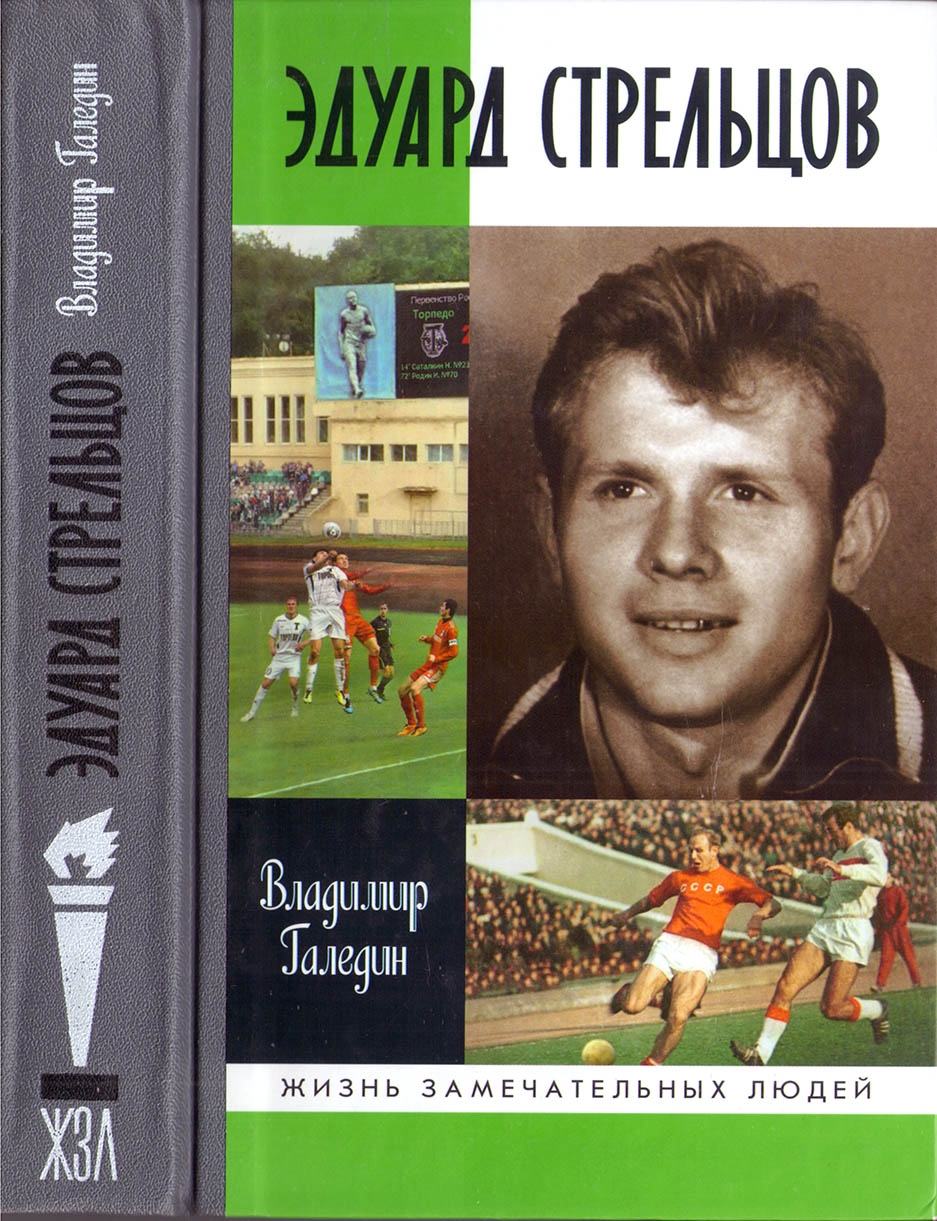Книга Славута и окрестности - Владимир Резник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Меня заинтересовала эта странная пара. Я развалился в тени, закурил и, гордясь своей наблюдательностью, стал обдумывать сам собой упавший в руки сюжет. История, поначалу увлёкшая меня, после короткого обдумывания и развития оказалась с душком: отказавшаяся ещё в роддоме от младенца-дауна мамаша; молодой тогда ещё папа, принявший на себя все тяготы воспитания неполноценного сына. Папа ещё и сейчас хоть куда, но вместо того, чтоб устраивать свою личную жизнь — заботится о сыне, путешествует с ним в детские каникулы и так далее. Всё жизненно, душещипательно и ужасно пошло. Пока я расстраивался, из коттеджа вышел человек, вперевалочку подошёл к машине и стал что-то из неё доставать. Несмотря на солнечную, жаркую погоду он был одет с головы до ног во всё чёрное. Издалека я не мог рассмотреть деталей, но удивила плотная, широкая, почти квадратная фигура и заметно-неловкие, неуклюжие движения. Человек захлопнул дверцу машины и, так же переваливаясь, вернулся в коттедж.
— Определённо, даун, — подумал я. — И папашка странный. А может это не родной папаша? Может это приёмный, взятый на воспитание ребёнок? Во искупление каких-то грехов юности бывший мачо решил посвятить себя воспитанию неполноценного, несчастного ребёнка?
Получалось ещё хуже. Показавшаяся поначалу такой привлекательной история тонула в липком сиропе. Я барахтался в ней, как муха в патоке, лихорадочно ища, за что бы зацепиться и выползти на твёрдую почву.
— Папашка… папаша… строгий такой… учитель… как пастор… о, пастор! Что там у нас было недавно с пасторами? Ага, скандалы с педофилией! Вот оно! Никакой он не папаша — он Гумберт, да ещё и гомосексуалист, использующий мальчика-дауна для удовлетворения своих извращённых желаний!
Сюжет заиграл совсем другими красками, в нем появилось пространство, в котором можно было вволю порезвиться. Чтобы подстегнуть воображение я отхлебнул ещё не успевшего нагреться белого вина, которое моя запасливая спутница захватила с собой под дерево, и зажёг следующую сигарету. Коттедж, в котором окопался страшный педофил, был прямо передо мной, на склоне лощины, и я нацелился на него, стараясь проникнуть в то, что происходит за белыми пластиковыми стенами этого небольшого и теперь уже зловеще-таинственного дома. Ну а из дома, похоже, что подглядывали за нами. Мне это только подбавляло азарта, а спутнице я этого, естественно, не сказал, так как подсматривали, наверняка, за ней. Быстро сочинил я сурового пресвитерианского пастора, съедаемого тайными страстями: мрачного, зажатого, горящего внутри адским огнём и бесстрастного снаружи. Потом придумал ему детскую фрейдистскую травму, безотцовщину, одинокую скрытную жизнь. Потом подумал, не оживить ли историю детективной линией с периодически пропадающими в Канаде мальчиками, но поразмыслив решил от этого отказаться. Оставался нерешённым вопрос: что делать с мальчиком-дауном, который сейчас находился в этом коттедже? Какую судьбу уготовил ему пастор? Закопает где-то на этих лесистых холмах или, как Гумберт, собирается колесить с ним по бесконечным американским дорогам, пока не произойдёт какая-нибудь случайность, и эта история не закончится сама с собой? Пытаясь выкрутиться из тупика, в который сам себя и загнал, я не заметил, как задремал.
Проснулся я, когда солнце уже начало пристраиваться к вершине холма, чтоб потом быстро юркнуть за него и оставить нас в душной темноте. Да и проснулся я не сам — растолкала меня моя спутница, которая уже обгорела и проголодалась. Вспомнив всё, что насочинял перед тем как заснуть, я с отвращением сплюнул — подобная дрянь могла прийти в голову только под влиянием всех этих дурацких местных названий, безвкусицы и поддельного антиквариата, которым был набит этот бывший сарай.
— Хотя, — не без злорадства подумал я, — в таком месте подобная писанина наверняка пользовалась бы успехом.
Я представил замусоленную книжку со своим именем на яркой мягкой обложке, стоящую среди подобного же чтива в здешней гостиной, на полочке, составленной из книг, забытых проезжими путешественниками — и мне стало ещё противнее.
Вернувшись в номер, мы переоделись, сложили в сумку всё необходимое, чтобы потом сразу отправиться в парк смотреть на звёзды, и поехали ужинать в ближайший ресторан, который находился в нескольких милях от нашей гостиницы. Ресторан этот был рекомендован в самодельном, отпечатанном на домашнем принтере путеводителе, лежащем в нашем номере, как «спокойный и с достойной едой». «Спокойный ресторан» оказался придорожной забегаловкой с несколькими столиками без скатертей и барной стойкой, у которой уже сидели человек пять местных жителей: крепких, красношеих, в кепках-бейсболках с козырьками назад и, громко гогоча, пили пиво прямо из бутылок. В меню были сэндвичи, гамбургеры и «традиционный салат Цезарь» — так и было написано. Немолодая, потрёпанная официантка, с плохо запудренным синяком под глазом и давно немытой головой, удивлённо посмотрела на меня, когда я, заказав бокал вина для спутницы, сам отказался от спиртного под предлогом того, что я за рулём. Забегаловка стояла прямо у шоссе, на несколько миль вокруг не было ни одного жилого дома, и в баре наверняка не было никого, кто пришёл сюда пешком или приехал на такси. Все были за рулём. Спотыкаясь, она принесла нам по выбранному, как мне показалось по названию, самому безопасному сэндвичу, от одного вида которых у меня началась изжога. Впрочем, спутница моя съела всё быстро и с удовольствием. Поковырявшись в сэндвиче, вытащив и съев из него всё, что не вызывало сильного подозрения, я рассчитался, и мы ушли, под одобрительное гуканье ковбоев у стойки, которые уже открыто пялились на мою спутницу.
До парка было миль пятнадцать. Уже смеркалось, и ехал я по извилистой дороге очень осторожно, особенно, после того как на очередном слепом повороте, фары выхватили из полутьмы стоящего прямо на обочине оленя. Впрочем, он не торопился под колёса и, не обращая на нас внимания, продолжал что-то выискивать в некошеной придорожной траве. Когда мы въехали в парк, было уже темно, но малиновая полоска подсвеченных уже закатившимся солнцем облаков на западе ещё давала достаточно света. Мне даже не пришлось включать припасённый красный фонарик — а другой в таких местах использовать нельзя — чтобы найти нужное нам поле, разложить на траве одеяло, достать припасённое вино и, устроившись поудобнее, уставиться в небо.
Я согласен с теми, кто утверждает, что язык наш не то что бы беден, а просто не приспособлен к описанию тех явлений, с которыми человечество до сих пор не сталкивалось: к примеру, квантовых измерений, многомерных вселенных и прочих новых понятий. Но небо-то, звёздное небо, которое висело над этой планетой до нашего появления на ней и будет мерцать ещё миллионы лет, после того как мы с неё исчезнем, — для него-то, почему не можем подобрать мы правильных слов? А нет их. Как, какими звуками и на каком языке описать то, что происходило, да ещё так, чтобы читающий, ощутил то же, что почувствовал я, когда пропало всё, всё вокруг, и мы остались вдвоём: я и небо.
Это случилось примерно через полчаса. Случилось, когда, наконец, наступила полная, абсолютно полная темнота, когда погасли даже никогда не темнеющие, подсвеченные далёким человеческим жильём края горизонта. Вот тогда-то и произошло чудо, ради которого мы туда и приехали. Неведомый фонарщик, взобравшись по бесконечной лестнице, смахнул пыль, протёр влажной тряпкой небосвод, произнёс волшебное: Эйн, цвей, дрей и… Я никогда не видел такого неба. Я знал, что оно такое, я мечтал о нём, я бродил по нему во сне. Школьником, как все мальчишки шестидесятых, я бредил космосом, знал в лицо всех космонавтов мира, помнил карту Луны, лучше городской, собирал свой телескоп. Что мог я разглядеть в него в вечно-мутном, сером ленинградском небе!?
Мы уехали оттуда часа в три ночи. Спутница моя готова была лежать до утра, но я больше не мог там оставаться. Наступило насыщение. Есть предел, после которого ни красота, ни новизна