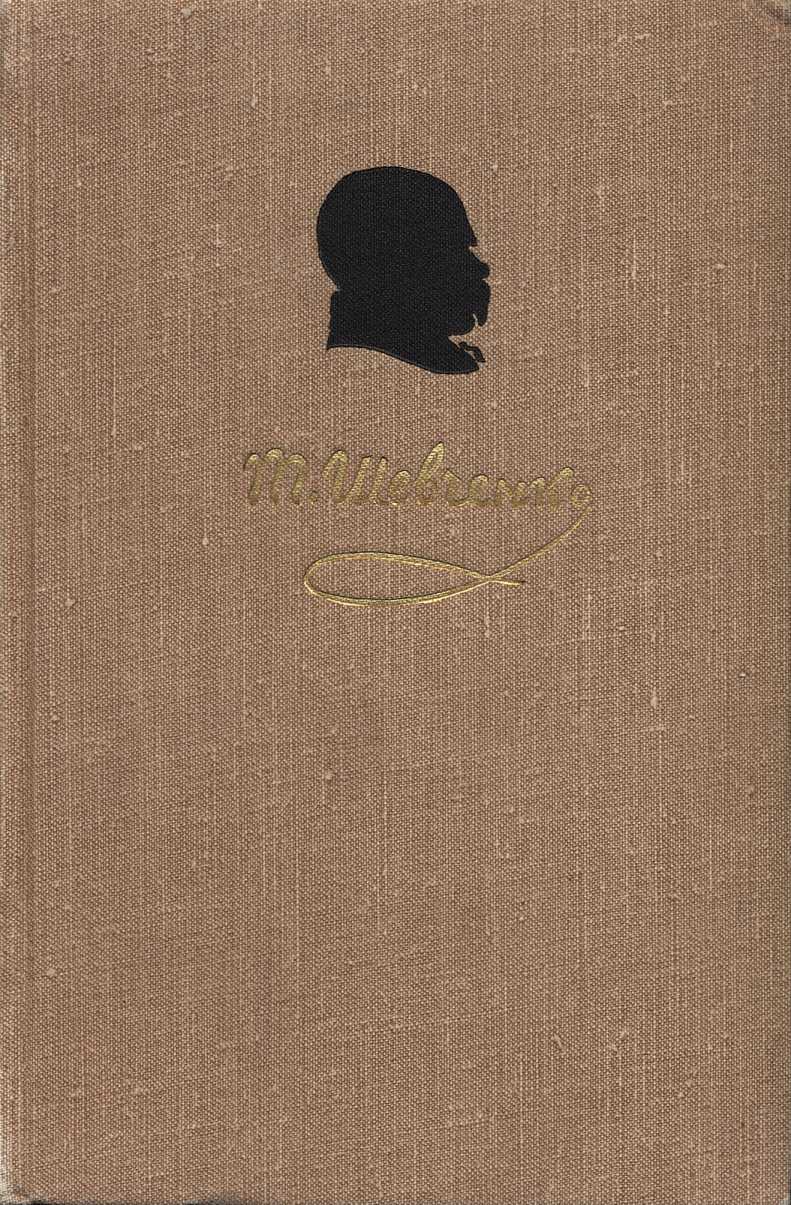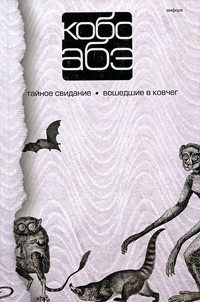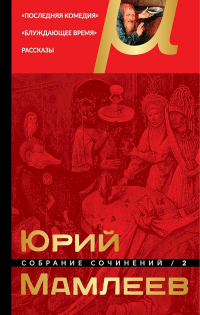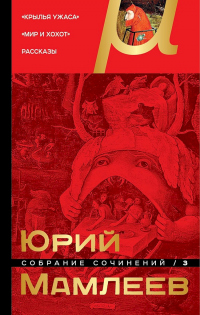Книга Том 4. Повести - Тарас Григорьевич Шевченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса,— перебил ее Никифор Федорович.
— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там той Хорол: проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом. Там-то мы и ночевали, а не в самому Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как бо его зовуть, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?
— N.,— сказал Никифор Федорович,— Оболонский.
— Да, да: N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом, как раз против господского дома! Говорят, какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа,— праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночувалы и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава богу! Белоцерковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням, а с железного сундука с червонцами никогда и не встает,— так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами, говорят полотна одного, десятки, возов на сто было, а можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? — не велела.— Раскрадут, говорит, лучше пускай сгорит.— Тьфу, какая скверная! В Решетиловке церков с десять, я думаю, будет, и живут всё казаки. Перед самою Полтавою обедали в корчме, и только что лег отдохнуть Никифор Федорович, приезжают архиерейские певчие.
Степан Мартынович завертелся на стуле.
Входят в корчму, и один как заревел: «Шин
карко, горилки!» Я так и умерла со страху; отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат. А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.
Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить — в пользу мужа.
— Хорошо, я уже все до конца доскажу, а вы б тым часом похлопотали коло вареников. Карл Осипович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами.
Оба слушателя в знак согласия кивнули головами, а Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.
— Да, — начал Никифор Федорович,— благословение господнє не оставило-таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике в сто раз хуже нашего. Просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал и прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: «Как ваша фамилия?» Я сказал: «Сокира».— «Сокира, Сокира,— повторил он.— У вас двое детей: Зосим и Савватий».
Степан Мартынович сидел как на иголках.
— Котляревский продолжал: «Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус».— «Так точно»,— говорю я, но спросить его не посмел, откуда он все это знает. «Вы, кажется, удивляетесь,— говорит он,— что я знаю, как ваших детей зовут».— «Немало, говорю, удивляюсь».— «Слушайте, говорит, я расскажу вам историю».
Степан Мартынович задрожал от страха,
— «Однажды я гуляю себе около своих ворот»,— начал было он рассказывать. Только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Репнина просит к себе на чай. Он сказал, что будет, а я, взявши шапку, хотел проститься и уйти, а он и говорит мне: «Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру да приведите и казаков своих».
Степан Мартынович вздохнул свободнее.
—«Да что же я тороплюсь? Время терпит, говорит, а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...»
При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:
— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь: я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.
Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул, и, когда тот успокоился, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.
— Господи, прости меня окаянного! А я, недостойный отрешить ремень сапога его, я... я дерзнул мало того, что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять и, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. О, просты, просты мене, господы! С таким великим мужем, с попечителем и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...
— Не ходите завтра,— сказал Никифор Федорович,— а на то лето поедем вместе.
— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!
— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбилися Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою «Энеиду» с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай бог ему здоровья, тоже подарил свою «Энеиду» и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату: тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.
Не описываю вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу