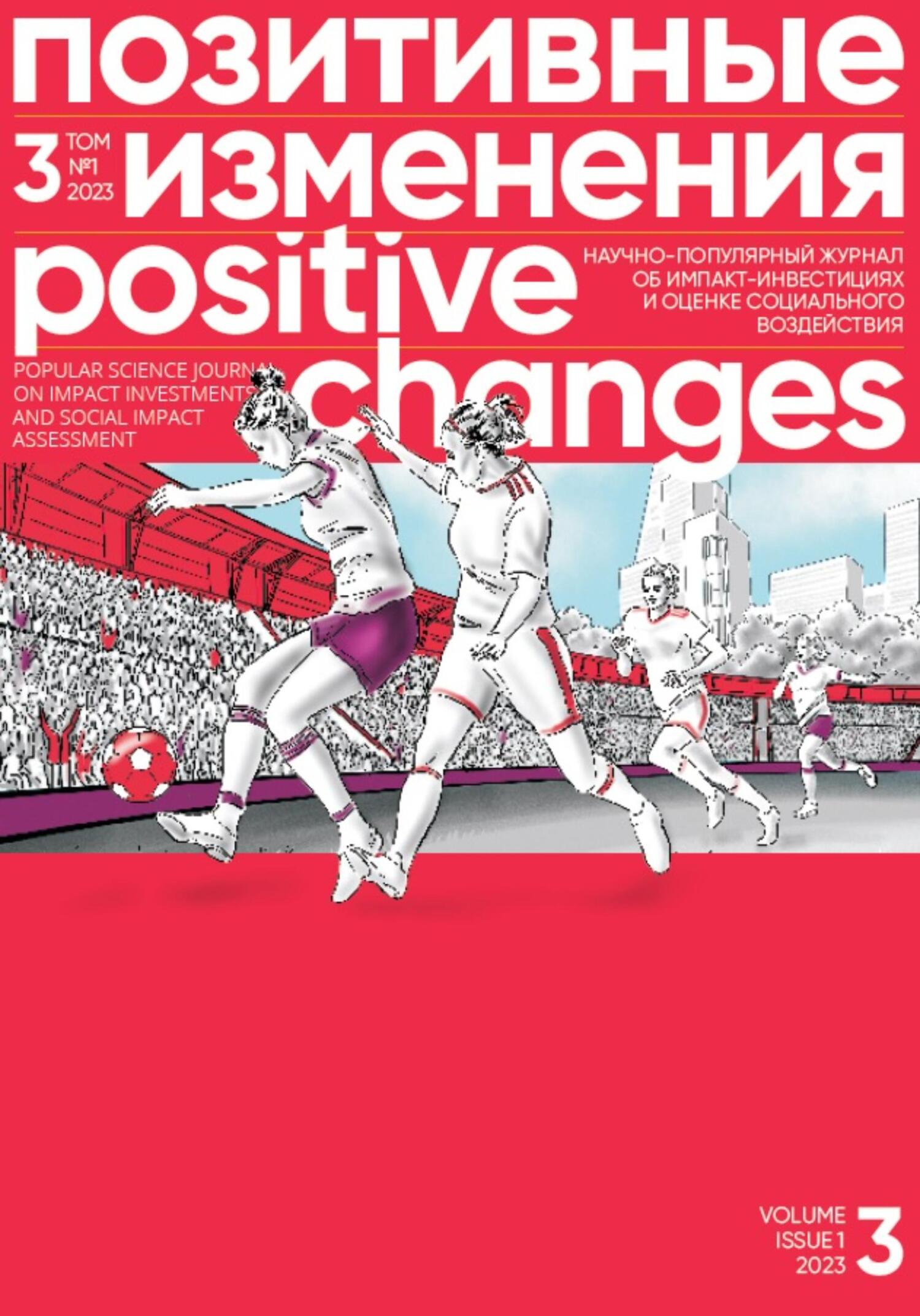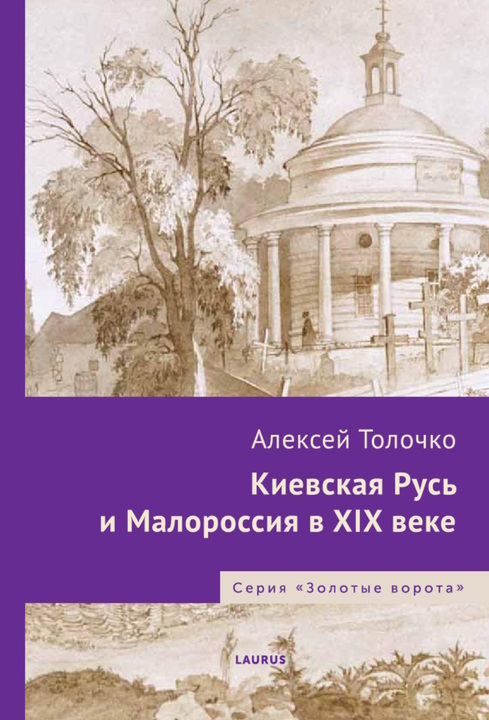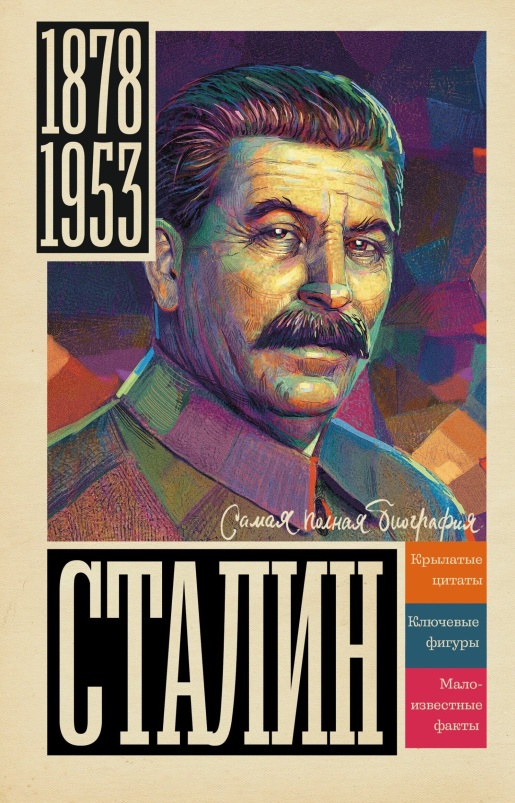Книга Долгое отступление - Борис Юльевич Кагарлицкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
НАСЛЕДИЕ ЯКОБИНЦЕВ
Социолог Федор Степун, позднее высланный из России, вспоминая свои встречи с Лениным, заметил, что «его главный талант — невероятный дар упрощения»[91]. Но именно этот «дар упрощения», которым отличался лидер большевиков, позволил ему выработать оптимальную революционную тактику в чрезвычайных условиях 1917 года, когда, не решив вопрос власти, невозможно было остановить сползание общества к хаосу. Понимание трагической невозможности «хорошего» решения объединяет большую часть добросовестных критиков большевизма. Николай Бердяев, не поддерживавший коммунистов и высланный ими из России в качестве одного из пассажиров знаменитого «философского парохода», признавал, что демократических вариантов для решения проблем России в 1917–1920 годах просто не имелось: «Только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. Нужно было взбунтовавшимся массам дать лозунги, во имя которых эти массы согласились бы организоваться и дисциплинироваться, нужны были заражающие символы. В этот момент большевизм, давно подготовленный Лениным, оказался единственной силой, которая, с одной стороны, могла докончить разложение старого и, с другой стороны, организовать новое. Только большевизм оказался способным овладеть положением, только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям. И он демагогически воспользовался всем»[92].
Разумеется, осознание трагизма русской политической ситуации 1917–1920 годов вело разных людей к разным выводам. Но если христианский социалист и мыслитель Бердяев мог позволить себе одновременно осудить большевиков с моральной точки зрения и понять их правоту с точки зрения практической политики, то сами участники социалистического движения должны были сделать выбор. Именно поэтому и Дьердь Лукач, и Роза Люксембург, несмотря на все свои сомнения и обоснованную критику, все же сделали выбор в пользу Ленина[93].
В противоположность им Каутский, критикуя диктаторские меры большевиков, принципиально не задается вопросом о том, как иначе можно было действовать в сложившейся ситуации, в конкретных российских условиях 1918 года. Сдать власть силам контрреволюции? Сложить оружие? Легко догадаться, что подобная альтернатива была неприемлемой не только для большевиков, но и для значительной части русского общества, выступавшего за радикальный разрыв с монархическим прошлым.
Будучи хранителем марксистской ортодоксии, Каутский искренне считал: для победы в споре достаточно показать, что его оппоненты отклонились от того или иного положения теории Маркса, приверженность к которой декларировали. И он был прав, уличая Ленина в теоретической непоследовательности. Ленин хоть и опирается на Энгельса, неоднократно его цитируя, но говорит иное. И невозможно не видеть различий между ними. Однако порождены ли эти различия только их взглядами на демократию как теоретическую проблему или все же практическими условиями, в которых формировались их позиции? И если практика требовала отступления от готовых (и по сути, абсолютно правильных) рецептов классического марксизма, то теоретическое осмысление произошедшего надо начинать с оценки именно практики.
Оказавшись в ситуации реальной, а не воображаемой революции, причем происходившей на фоне уже идущей войны и вакуума власти, возникшего при крушении старого режима, большевики вынуждены были действовать применительно к обстоятельствам, но это не значит, будто они не имели в своем интеллектуальном багаже никакого опыта, на который могли бы опереться, принимая свои решения. Английские революционеры XVII века соотносили свои поступки с библейскими сюжетами, французы сто лет спустя оглядывались на республиканские традиции классической античности, а их русские последователи начала XX века — уже на идеи и опыт самих французов.
Вступая в противоречие с привычными идеями марксистского социализма, Ленин вполне вписывался в другую революционную традицию — якобинскую[94]. И дело тут не только в идейной преемственности, но и в схожести практической ситуации, в которой оказался революционный режим во Франции 1793 года и России 1918–1919 годов. У Каутского с его великолепным профессорским социализмом почерпнуть было в сложившихся обстоятельствах нечего. А вот Робеспьер и Сен-Жюст давали руководителям молодого советского государства конкретные образцы политических решений. Другой вопрос — насколько эти решения были верны с точки зрения социалистической перспективы.
Не большевики, а именно французские революционеры провозгласили принцип — никакой свободы для врагов свободы. Объясняя необходимость террора, Максимилиан Робеспьер четко сформулировал мысль, которая Лениным позднее будет повторяться в почти неизменном виде: «Для того чтобы создать и упрочить среди нас демократию, чтобы прийти к мирному господству конституционных законов, надо довести до конца войну свободы против тирании»[95]. В этом плане очень показательно, что, защищая проводимую советской властью жесткую политику, Ленин подчеркивал: «без такой диктатуры, т. е. без систематического, беспощадного, не останавливающегося ни перед какими буржуазно-демократическими формулами подавления сопротивления эксплуататоров, немыслим не только социалистический, но и последовательно демократический переворот, немыслимы никакие серьезные меры борьбы с кризисом и разрухою, созданною войною»[96]. Точно такой же логики придерживались и вожди Великой Французской революции, подавляя восстание в Вандее и разворачивая репрессивные кампании против спекулянтов и «подозрительных».
Переворот, происходивший в России начала XX века, решал в значительной мере задачи, которые стояли еще перед французской революцией, разрушая не только буржуазные порядки, но и традиционные добуржуазные отношения, которые на практике неразрывно срослись с ними в условиях периферийного капитализма. Ленин неоднократно говорил, что большевикам приходилось доделывать работу так и не состоявшейся в России буржуазной революции. Потому нет ничего парадоксального в том, что в идеологическом и культурно-историческом плане Ленин совершенно сознательно опирается на традицию французского якобинства, от которой он никогда не отказывался и приверженность к которой он неоднократно декларировал[97].
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИКТАТУРА
В годы Гражданской войны Ленин четко сформулировал принципы революционной диктатуры: «врагов социализма можно лишить на время не только неприкосновенности личности, не только свободы печати, но и всеобщего избирательного права»[98]. Михаэлю Бри такой подход кажется странным, он с недоумением констатирует, что «неприкосновенность личности, т. е. защита физической и психической целости перед политическим насилием, здесь расценивается ниже, чем политическое избирательное право»[99]. Однако это совершенно логично с точки зрения якобинской традиции. Расправа с конкретным человеком, являющимся, по мнению революционеров, врагом свободы, вполне допустима, особенно в условиях острого противостояния. Другое дело покушение на демократические институты как таковые — тут возникает очень много вопросов, в том числе касающихся и границы применения подобных запретов, которые рано или поздно начнут бить по своим, о чем и предупреждает Роза Люксембург в своем тексте о русской революции. Но для Ленина очевидно, что чрезвычайная обстановка гражданской войны дает основания покуситься даже на эти демократические свободы, которые сами большевики еще недавно горячо отстаивали.
И Ленин, и Троцкий, оправдывая свои решения, неоднократно подчеркивали «временный характер» применявшихся мер[100].