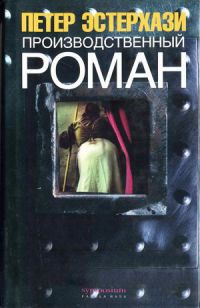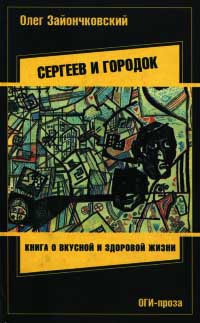Книга Harmonia caelestis - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наша сестренка нашла тонкую светлую ученическую тетрадь. Замызганную, выцветшую от солнца, в кляксах. На изделии бумажного комбината Фюзфё, розничная цена 0,50 форинта, детским почерком кого-то из нас написано и тут же зачеркнуто: «Тетрадь для изложений». На задней стороне обложки отпечатан венгерский алфавит от Аа до Zszs и знаки пунктуации:.?!:-«» а ниже — императивная рекомендация школярам: «Любая письменная работа должна быть написана аккуратным четким красивым почерком! Будапешт, 4 сент. 1963 г.»
Тетрадку мать наверняка стянула у нас, в ней — хозяйственные записи, список одежды, одолженной Бодице или полученной от нее, деньги, выплаченные Маргитке, глажка, мытье посуды (почасовая оплата, как выясняется, была десять форинтов), расходы, цифры столбцом (сложение). Все записи в тетради зачеркнуты, то есть все как бы выполнено. А в конце тетради, от последней страницы к началу, мать аккуратно записывала все «безобразия моего отца»: дата, час, минуты, событие. Цитировать это не хотелось бы. Но и в этих записях заметна раздвоенность матери, она, видимо, и вела их только с той целью, чтобы самой потом было труднее откреститься от этих его «безобразий». Мой отец, естественно (?), все всегда отрицал, упреки квалифицировал как беспочвенные или, во всяком случае, преувеличенные, но обещал тем не менее, что больше это не повторится. Мы слышали иногда, как они говорили об этом шепотом, только не могли понять, что больше не повторится, если, как он заявлял, не было ничего такого, что заслуживало бы упреков. В этих записях мать не осмеливалась дописывать до конца слова, она явно боялась слов, боялась фиксировать ими события, но боялась и незаполненных строк, разверзающейся перед ней пустоты, боялась себя обманывать. Например, стельк означало, что он пришел пьяный в стельку; пом — значит, что на рубашке или на нем самом были следы помады.)
В этом, по сути, несуществующем споре я коротко изложил Папочке — он не слушал меня — свои планы и, прежде всего, программу создания общей памяти, в которой было бы все — от хора ангелов до жаркого из свиных ножек, от Петера Пазманя до моей пиписьки, от моего отца до моей матери — и в которой (особо красивая мысль) память всех была бы моей, и его память, и моих братьев с сестренкой, и память соседей, всех-всех, даже народных дружинников… Я продолжал свое.
— Ты вечно будешь ребенком, — вдруг прервал он меня. В голосе его я расслышал гордость, которую вынужден был отнести на свой счет, принять как завуалированную похвалу или дань уважения к моему сыновнему статусу. — Ты вечно будешь ребенком, а я буду твоим отцом. — Он помолчал, а затем, словно досказывая анекдот, с наслаждением завершил: — Пока не умру.
Я, помнится, только пожал плечами. И тогда отец, словно сделав кульбит, стал, паясничая, объяснять мне, мол, заметьте себе, юный друг, что общая память опирается не на скалу, даром что при крещении заботливые родители меня нарекли скалой, Петрусом, но не на этой скале она зиждется, а на трясине, на гнилом, изрыгающем смрадные газы кошмарном болоте, имя которому — смерть.
Он неожиданно поцеловал меня.
— Цементом, который скрепляет общую память, является именно смерть, вот так-то, мой дурачок.
Мы сражались с ним, два гладиатора.
129
Когда в мае 1951-го в Будапеште началась пресловутая депортация, родители ничуть не обеспокоились и не взволновались; чего, собственно, было им волноваться? Уж коли потеряно все, то терять больше нечего, и это можно было даже назвать свободой или, во всяком случае, ощущением оной. Лично я, правда, к тому времени еще ничего не потерял, но тоже не беспокоился и не волновался, полагая (а что еще мог бы я полагать?), что это естественно, что так устроена жизнь: человека выдергивают даже из колыбели, являются по ночам неизвестные, крики, шум, тюки и корзины, беготня, темнота, грузовик, вонь солярки, опять незнакомцы, опять крики, шум, бесстрастное лицо отца, слезы матери, которая после этого не плакала уже никогда, почти никогда, словом, я полагал, что это и есть нормальный порядок вещей, а коль так, то нечего беспокоиться, нечего волноваться.
Я не знал, что, когда я впервые узрел родной город, Будапешт был вместилищем страха; мой город был целиком в его власти, был полон им до краев; всё, от тесных улочек и дорожек Будайской крепости до грязных предместий и ласкающих взор аллей («названных в честь твоих дядюшек»), задыхалось, как выразился поэт, под «огромной, прыщавой и омерзительной задницей» страха. Из моей колыбели открывался фантастический вид на Кровавое поле и Крепость. Мы жили в прекрасном месте; моим первым пристанищем была вилла в Буде, неподалеку от лестницы, названной в честь нашего короля Чабы, на крутом склоне — словно дом вырастал прямо из холма, носившего имя несчастного предателя Мартиновича.
Прабабушка Шварценберг и тетя Мия тоже жили у нас — женский монастырь, приютивший их (а он, помнится, финансировался нами, нашей семьей), власти закрыли. Неизменные черные очки только подчеркивали красоту тети Мии, которая выглядела как знаменитая актриса, сохраняющая инкогнито. Между тем ничего от актрисы в ней не было, да и красота ее уже как-то пожухла (или такою была всегда, хотя это нелогично); никто из мужчин никогда не интересовал ее как мужчина, и единственный, к кому она испытывала чувства, оставался ее брат, наш дедушка, ему она могла бы служить всю жизнь, но в этом ей было отказано. Дед этого не позволял. Оставалось стать монахиней, однако Христовой невестой ей тоже быть не хотелось, ей и для этого не хватало чувств. Пришлось ограничиться финансовой помощью монастырю. Свою холодность тетя Мия отчаянно, но не слишком успешно пыталась скрывать, маскируя ее любезностью. В свою очередь, мы, детвора, столь же отчаянно демонстрировали ей свою любовь. И мне кажется, то и другое отчаяние вполне уживались друг с другом. Но главное, и это не вызывало сомнений, у тети Мии были самые шелковистые в мире руки. Мы брали их, как берут обмирающую пташку, тетя при этом не сопротивлялась, и водили ими по своим мордашкам, пока она (во всяком случае, так ей казалось) занималась с нами немецким.
130
Был у нас один родич, далекий, фантастический и загадочный дядюшка по имени Миклош Себек, которого все звали просто Роберто, как какого-нибудь итальянского сутенера; исключение составляла лишь моя мать, она называла его всегда серьезно — Миклош («послушайте, Миклош, прошу вас, Миклош»), а впоследствии и отец, который с определенного времени не называл его никаким именем («не хотел осквернять уста»).
Временами Роберто тоже живал у нас, был у него даже свой матрац («настоящий матрац! конский волос!»), и поначалу Роберто располагался на нем в моей комнате, но мать вечно переживала, как я там, вдалеке от нее, в другой комнате, или просто скучала, не желая, чтобы время мое текло без ее участия (позднее, когда нас прибавилось, мое время стало течь как попало, и наблюдать за его течением у матери не было ни сил, ни желания, да и переживать она перестала, ведь если переживать сразу за четверых, то недолго и помешаться, с четырьмя карапузами можно только надеяться, что тоже немало), во всяком случае, моя мать перебралась ко мне на матрац, а Роберто — к отцу, в супружескую постель. Над этим много смеялись — все трое. Поскольку на свадьбе родителей Роберто исполнял роль свидетеля, то поначалу предполагалось, что он будет мне крестным отцом. Но он отказался.