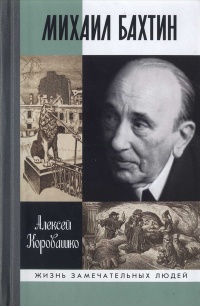Книга Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - Алексей Юрчак
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Именно к этому виду иронии относились, по нашему мнению, советские анекдоты. Мы не согласны с их распространенной интерпретацией как второго вида иронии по Слотердайку — как иронии цинизма и притворства. Напомним, что речь идет не об изолированных шутках, а о повсеместном социальном ритуале их рассказывания. Как и в других примерах иронии вненаходимости, рассмотренных выше, было бы ошибкой сводить роль анекдотов к процедуре вскрытия системной лжи или к временному выражению «истинных» мыслей циником, который обычно прячет эти мысли под маской притворства[326]. Анекдоты рассказывались всеми — и теми, кто был за систему, и теми, кто был против нее, и тем большинством, чье отношение с системой не свести ни к тому, ни к другому. Анекдоты стояли вне бинарного деления граждан на тех, кто за, и тех кто против, вне разделения общественного порядка на «систему» и «простых людей» и вне деления смыслового пространства на публичные высказывания и скрытые мысли. Показательно, что в принципе объектом анекдотов мог быть не только партийный босс, советский разведчик или наивный герой, но и диссидент — то есть позиция анекдота не совпадала с позицией воображаемого «диссидента»[327]. Например:
Диссидент выходит из дома. На улице идет дождь. Посмотрев в небо, он восклицает с негодованием: «Что хотят, то и делают!» На следующий день диссидент выходит из дома, а на улице светит солнце. Он снова смотрит в небо и с негодованием восклицает: «Вот на это у них денег хватает!»
Толпа людей молча стоит по подбородок в луже дерьма. Вдруг в нее падает диссидент и начинает размахивать руками и возмущаться: «Как вы можете это терпеть? Как можно жить в таких условиях?» На что толпа тихо отвечает: «Перестань волны делать».
В первом анекдоте диссидент показан психически ненормальным человеком, который, в отличие от «нормальных» людей, не только воспринимает все факты окружающей действительности как часть авторитетного дискурса партии, но и интерпретирует их буквально. Это, безусловно, не реальный диссидент, а воображаемый, но именно так его представляло себе большинство советских граждан. Отношение этого субъекта к действительности напоминает то, как Жак Лакан описывает «психотического субъекта», для которого «все является знаком… Если он повстречает проезжающую по улице красную машину, он не воспримет ее как случайный объект — она не случайно проехала мимо именно в этот момент, скажет он».[328] Во втором анекдоте моральная позиция воображаемого диссидента интерпретируется «нормальными» людьми не как сопротивление государственной лжи, а как пренебрежительное отношение к ним самим — к своим. Кроме того, в этом анекдоте юмор направлен не только на воображаемого диссидента, но и на самих рассказчиков, то есть на всех нас — всех тех, кто стоит по уши в дерьме, прекрасно это сознавая.
Веселье и наслаждение от коллективного рассказывания анекдотов было сродни удовольствию от рассказывания того, что Фрейд называл «тенденциозными остротами» — остротами, которые из-за их табуированности нельзя произносить во многих публичных контекстах (к ним относятся остроты на некоторые политические, расовые, сексуальные и другие темы). Такие остроты, подчеркивал Фрейд, не только вызывают удовольствие от остроумия говорящего, но и создают «новое удовольствие» путем упразднения психологических вытеснений, что дает возможность социальной системе, породившей эти вытеснения, воспроизводиться. Однако эта психологическая интерпретация соответствует советским анекдотам лишь отчасти. Исследуя механизм табуированного юмора на уровне индивидуальной психики, Фрейд сводит его к компенсации психологического вытеснения. Но для анализа позднесоветского ритуала рассказывания анекдотов — ритуала не только социального, но и пронизывающего всю социальную структуру советской системы — такой индивидуально-психологический подход слишком узок. Он неизбежно ведет к воспроизводству проблематичной бинарной модели советского субъекта, рассмотренной в главе 1, согласно которой этот субъект якобы имеет только два выбора своего поведения — либо искренне поддерживать советскую систему, либо притворяться, что поддерживает ее, «подавляя» свои истинные мысли и желания[329]. Хотя ритуал рассказывания анекдотов, безусловно, порождал «дополнительное удовольствие», оно не ограничивалось упразднением вытеснений на уровне индивидуальной психики, а работало шире — как механизм регулирования динамично развивающейся системы социальных отношений и смыслов. Как и другие виды иронии вненаходимости, анекдоты помогали человеку вести относительно содержательную, творческую и нравственную жизнь, которая не вписывалась ни в поддержку системы, ни в сопротивление ей, а включала большое количество новых смыслов, ценностей и способов существования, которые система не могла ни предвидеть, ни проанализировать. Советская система благодаря анекдотам не просто воспроизводилась, но и претерпевала непредсказуемые внутренние изменения, постепенно сдвигаясь и мутируя в непонятном направлении (и до поры до времени этот процесс оставался невиден).
Анекдоты были не про них, «советский режим», а про всю советскую реальность вообще, включая всех нас. Субъект, рассказывающий анекдоты, и субъекты, смеющиеся над ними (то есть практически все советские люди), находились по отношению к системе не в позиции внешних критиков, а в позиции вненаходимости. Анекдот был микромоделью реального способа взаимоотношений между «нормальными» субъектами и системой. В нем иронично иллюстрировалось личное и коллективное участие каждого смеющегося человека в формальном воспроизводстве советской системы, с одновременным смещением ее смыслов. То есть главной задачей анекдотов был взгляд «на себя самого», точнее, «на нас самих» — причем взгляд мимолетный, несфокусированный, облаченный в ритуализованную, неспонтанную форму анекдота, что позволяло субъекту не говорить непосредственно о себе и не акцентировать внимание на своем собственном поведении и отношениях с реальностью. Это давало возможность после ритуала рассказывания анекдотов продолжить действовать так же, как и раньше.
Именно поэтому юмор анекдотов следует отнести к третьему виду политической иронии, выделяемой Слотердайком. Он пишет: «В том случае, когда шутка направлена вовнутрь — то есть ваше сознание начинает смотреть само на себя свысока, но не слишком пренебрежительно, — наступает веселое успокоение, являющееся не дерзким смехом киника и не брезгливой насмешкой циника, а юмором, который перестал бороться». Но определение Слотердайка тоже не полностью описывает нашу ситуацию. Как и Фрейд, Слотердайк делает акцент на индивидуальной, психической стороне механизма этой иронии. Поэтому ему кажется, что такая ирония безобидна для политической системы и даже ею подразумевается — она не только не расшатывает ее устоев, но и помогает ей воспроизводиться. С этих же позиций рассматривает «тоталитарный смех» при социализме и Славой Жижек. Однако такая интерпретация кажется слишком статичной, слишком напоминающей старые модели структурного функционализма (в которых описывается, как социальная система самовоспроизводится, оставаясь в стабильном состоянии).