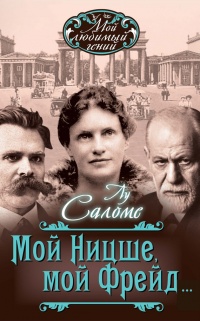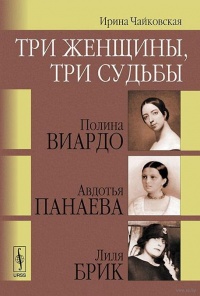Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я буду Тебе писать, Нина, много, подробно, — дай только чуть-чуть устроиться жизни. О возможности своего приезда в Париж я писал Тебе в прошлом письме — жду ответа…
Нина — Брюсову. 17/30 ноября 1908. Лейпциг.
…Даже моя безнадежность не может разрушить нашей близости. Помни это всегда. И на встречу к тебе, когда позовешь, я пойду с неизменной радостью. Только буду ли той, какую ты ждешь, — не знаю, и сейчас могу просить об одном, как ты: «Возьми меня, какой я могу быть». Недавно ночью я написала тебе длинное письмо, но не решилась послать, еще не имея от тебя ответа на предыдущее. Очень, очень стараюсь собой овладеть. Не убить себя, как говорила в Намюре, а только овладеть, чтобы возможно стало как-то жить во внешнем и просто дышать. «Милый Нин, если ты не нашел нужным умереть, то должен жить, а не бить себя об пол еще и еще», — так в каждом письме мне пишет Сережа, милый, трогательный Сережа. За 18 дней в Лейпциге, несмотря на мучительства с Надей, несколько опомнилась от Парижских безумств. Целые дни учусь, а вечерами внимательно и с упоеньем читаю Бодлэра…
Я, правда, куда-то ухожу, Валерий. Куда, — не знаю. Прав ли мой путь, — тоже не знаю, но скоро, скоро даже тени моей не останется в прошлом. Мое глубокое нежелание видеть русских и общаться с русскими как бы то ни было (о, милый, конечно, кроме тебя!), я думаю, есть не что иное, как внешний признак течения какого-то внутреннего процесса. Оборвалась связь со всей прошлой жизнью. Новой еще нет, но ни одной формы из прежнего повторить не могу. Ты знаешь, мне стало трудно писать русские письма. Я охотно отвечаю иностранцам, очень забавляюсь их письмами и с трудом иногда пишу даже Сереже. Может быть, через какое-то время на вопрос: «Давно ли Вы из России?» — я буду отвечать, как m-me Высоцкая, хозяйка моего пансиона во Флоренции, у которой ненависть к России стала манией, — она отвечала, право, бледнея и с самым острым гневом: «Я никогда не была в России». И если я сейчас не имею радостей положительных, то у меня есть постоянные отрицательные утешения, — я не в Москве, я не вижу «мальчишек», я не распинаюсь по вторникам у колонн Художественного кружка, ко мне не придет Владька, чтобы рассказать, как ты вчера проводил время, — словом, я уже за чертой всех этих мук, которые, по уверению Сережи, еще немного и стали бы трагикомическими, как нескончаемые мучения «бедного» Чеховского «француза».
Валерий, иногда мне снова хочется жить… Не знаю, как, не знаю, где и чем. Я долго, долго не умела свободно дышать, и весь мир был от меня закрыт. И вдруг иногда (о, не часто) мне хочется сказать себе словами Бодлэра:
Ах, они мне пишут слова, которые я хотела бы слышать только от тебя! Я знаю, знаю, что некоторые слова говорятся раз, но разве иногда мы не ропщем на самые железные и непреложные законы?
Милый Валерий! как хочется мне сказать: «Милый зверочек!» Но я повторяю их одними губами. Я не умею больше говорить этих слов…
17/30 ноября 1908. Лейпциг.
…Сегодня вечером я опустила тебе письмо, а сейчас ночь, 2 часа, и я не могу спать, как почти все последние ночи в Лейпциге. Так как я решилась «собой овладеть», то даже веронала не принимаю, и вот борюсь по ночам с ужасным расстройством души. Не знаю, какую мне жизнь сейчас нужно! Из Парижа бежала от шума; а здесь меня угнетает и мучит тишина. Ах, по ночам в сознании ощущение огромного пустого пространства, а немецкая комната с тяжелой мебелью, с унылыми серыми стенами кажется настоящим саркофагом. За стеной студент спит как мертвый, и тишина такая, что мне хочется швырять стулья, лишь бы как-нибудь ее нарушить. Но это не Москва, бурно выражать себя нельзя. И вот в огромной двуспальной кровати я лежу неподвижно, и мне кажется, что уж это смерть, смерть всего, кроме сознания. И вот меня пугает смерть, так же остро, как прежде радовала мысль о ней. Ты, может быть, вчера, т. е. в предыдущем письме, не понял, почему я привела строчки из Бодлэра, и они тебе показались бессмысленно выдернутыми. Ах, я насильственно оборвала мысль, потому что не решилась говорить так, как сейчас. Все это стихотворение связалось с целым рядом моих ощущений еще в Париже в одну из ночей в каких-то cabarets Монмартра, где со мной нежно разговаривали кокотки и где мне казалось, что меня и их связывает какая-то общая судьба. Так же я сидела с моим случайным «petit ami» (как они называли Роберта), так же за плечами у меня зияла тьма, бесприютность и пустота. Я думала о тебе, о Сереже — думала о Ваших мирных ночах, которые мне не дадутся теперь уже никогда, и вот тогда в первый еще раз эти стихи Бодлэра мне показались обращенными равно к ним и ко мне. Вся жизнь для меня мне представилась одним Парижским cabaret, которое мне отныне стало единственным назначением. А в промежутках вот эти мысли и единственное будущее для души и тела -
Милый Валерий, не сердись на все эти слова. Ты хотел, чтобы я говорила все. Не представляя нашего будущего в делом, я пытаюсь выполнить его первые условия, — и из Лейпцига шлю тебе письмо за письмом, — все безумные пометки состояния мятущейся еще души! Из Парижа я едва ли смогу писать так много, куда там меня швырнет новая волна? И будет ли даже расположение говорить о себе еще и еще. Эти свои ночные мысли и ощущения я ненавижу и сознаю их как (может быть, временное) паденье. Но если говорить совсем правду, то только в присутствии Б. Н. (о как это было давно!) я думала о смерти с истинным благородством и бесстрашием. В наши страшные дни она меня манила только как пропасть и забвение мук. Может быть, совсем чужими кажутся тебе мои письма? Ты в работе, в делах и совсем, навсегда далеко от такого шатания души. Какой-то частью моего существа мне очень хочется самой одной, без чьей бы то ни было помощи, даже твоей, стать мирной, тихой, успокоенной, не падать каждую минуту от самых разнообразных оттенков отчаяния. Самой для себя создать ваши «мирные ночи», когда cabarets даже и не снятся, когда хорошо спится после работы и иной усталости дня. Но я еще не могу, я еще не примирилась с «потерей», я еще в такой области, где воспоминания сильнее надежд. И когда они приходят меня мучить в роковой последовательности всех прошлых дней, я лежу как мертвая в моей двуспальной немецкой кровати, и вечера на Монмартре с моим случайным «petit ami» мне кажутся раем. Милый Валерий, я испытываю страшный соблазн изорвать это письмо, но так не поступлю. Завтра утром я отправлю его заказным. Ведь ты хотел бы знать обо мне все. Я пробую, стараюсь осуществить твою волю. Не осуждай меня ты, — это было бы жестоко. Напиши мне. Без твоего ответа на все мои письма я больше не смогу писать…
20 ноября/3 декабря 1908.
… Ты опять мне пишешь нежные письма! Ты опять говоришь голосом такой ласки, в ответ на которую мне только хочется без слов целовать твои руки… Милый, любимый, не знаю, что было в твоем письме или что было в моей душе, когда я читала его, но сегодня, без сомнений, без боли, с одной только нежностью хочется мне сказать тебе: да, да, да! Я тебе верю, я тебя вижу, наконец вижу, и я хочу тебя, и не будет времени, когда я могла бы сказать: нет, я тебя не хочу! Но пойми, я еще очень хвораю, так сильно, что минутами бред мой и боль меня делают почти мертвой. Я, должно быть, приду к тебе, я очень хочу прийти. Но подожди — жди меня, с нежностью и надеждой — «я, быть может, не умер… проснусь… вернусь»… Для того, чтобы «научиться быть с тобой», мне нужно сначала научиться быть без тебя. Но видишь, и без тебя я ни на минуту не теряю тебя. Я жду, падаю в отчаянии, бросаю себя в хаос, караю себя тишиной и одиночеством, когда еще это очень страшно, покорно и терпеливо я отдаю себя на мучение всем мыслям и видениям, которые пришли как спутники все одного же. У меня иногда так искажается от этого душа, что я себя не узнаю, но, Валерий, верь мне, Валерий, но во всем, всегда, везде я остаюсь тебе близкой, неизменно твоей. Я тебе послала очень безнадежное письмо в ответ на твое длинное и еще два или три, — совсем смутных. Милый, от меня сейчас не нужно спрашивать определенных ответов. Сейчас, так близко от последнего лета и во власти его воспоминаний, которые не успели померкнуть и смягчиться, — разве могу я говорить и отвечать иначе? Я еще это не пережила совсем; у меня нет уже прежних мыслей и желаний, но когда они все — пламенные, страшные и прекрасные призраки дней и вечеров — подойдут, обступят, лягут на грудь, — ах, Валерий! Подожди меня! Я приду, я наверно приду, хотя еще так, как ты хочешь, — не знаю когда. Многое, многое мучительное уже совсем неповторимо и невозможно между нами. Я верю тебе, вижу, знаю твой истинный образ, люблю его очень, но слиться с ним, как прежде сливалась с другим, — не умею пока. Милый, может быть, только пока? Поверь ты, жди меня, не уходи от меня теперь, безнадежно махнув рукой. Разве можем мы сказать: «Это кончено», когда наши души так влекутся друг к другу? Сегодня после твоих нежных слов я говорю не только моя, но наши, сегодня я верю в неизвестное, но светлое будущее с тобой и верю, что все мое будущее связано с тобой, какие бы тяжкие испытания ни пришлось пережить. Ах, не думай, что и эти слова опять приступ лихорадки, только с радостным бредом. Я очень печальна и даже больна сегодня, расстроена всячески, — это только твое письмо, — без тени какой-либо суровости обрадовало меня до надежды. Думаю, что 26-го поеду в Париж. Эти дни меня будет мучить Надя. Теперь ей хочется ехать со мной, она упрашивает ее взять. Я знаю, что в Москве она, пожалуй, скоро повторит то же. Но взять ее в Париж… С одной стороны, я бы этого хотела, но тут приходится встретиться с такими внешними трудностями, пойти на такие жертвы, что эти два месяца, которые она хотела бы быть со мной, — отнимут жизнь у меня. Но, несмотря на все это, я, вероятно, не вынесу слез и возьму. Не дают мне жить! Ну что ж, пускай едет, через 2 недели приедет ее студент — внутренне меня освободит, а внешности останутся внешностями… Сережа жалуется, что в Москве плохо, ты говоришь, что плохо, — верю Вам, мне же страшно все это вспомнить.