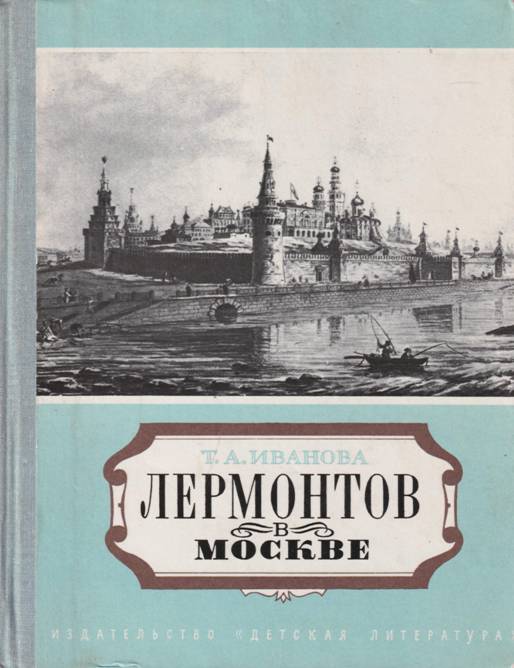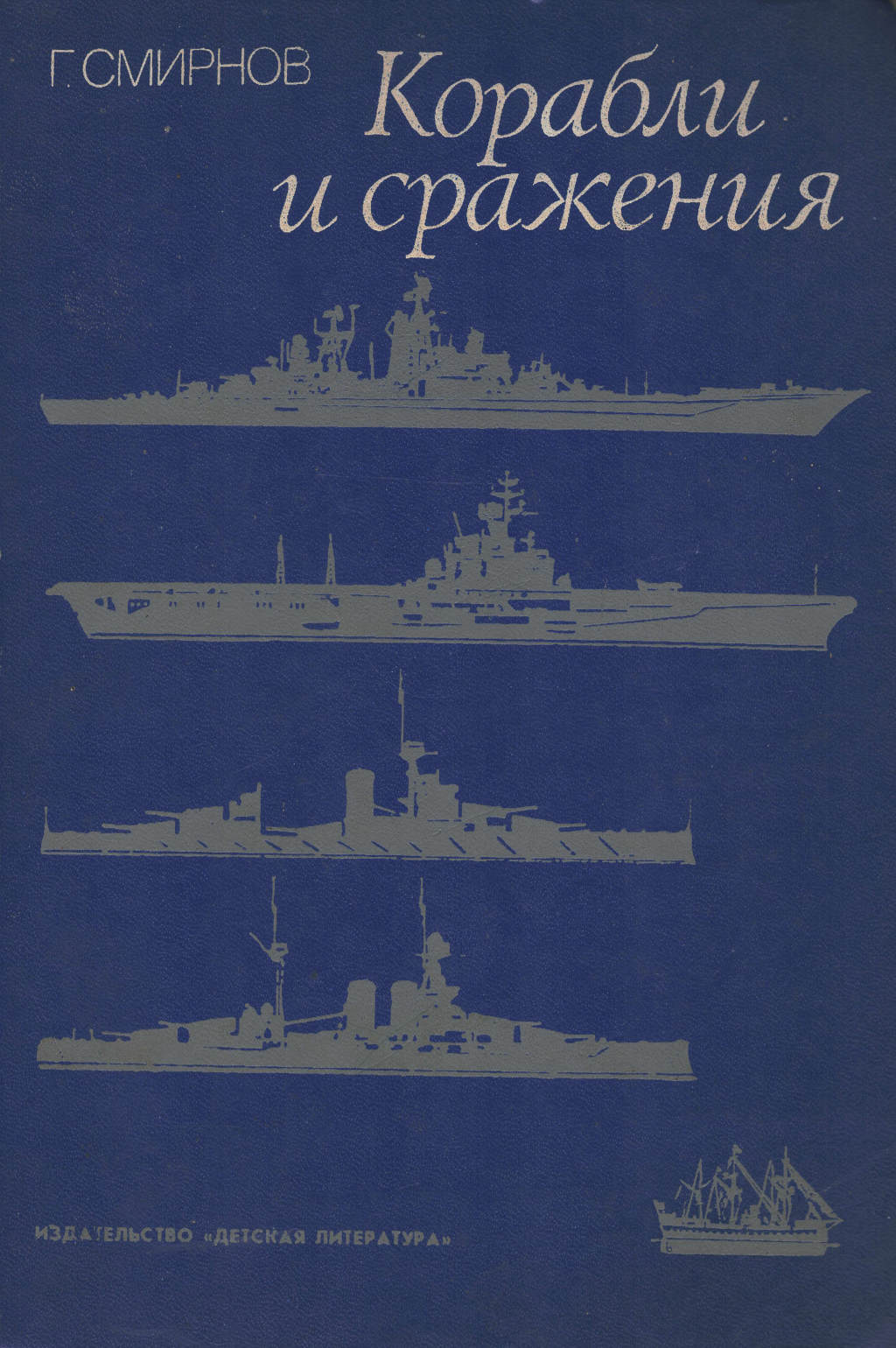Книга Полное и окончательное безобразие. Мемуары. Эссе - Алексей Глебович Смирнов (фон Раух)
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь поговорим о еврейских героях. Очень не слабые были еврейские герои, которых я знал. Ну, например, Илюша Бок-штейн — маленький, какой-то почти горбатенький, с большим кривым носом и с ясными детскими глазами. Жил он около огромного Храма Мартина Исповедника на Таганке в старом особнячке со своей, естественно, еврейской мамой. Мама все сокрушалась, какой ее Илюша несчастный и непутевый еврей. Все евреи гладкие, курчавые, толстые, как колбаски, и таскаются с тупыми русскими задастыми блондинками, а Илюша все один и всем недоволен. Был Илюша принципиальный диссидент и писал стихи, как говорил Мамлеев, все больше про пауков и крыс. Я его стихи мало читал, а вот о политике мы с ним говорили много. Однажды Илюша выступил на площади Маяковского у идола с широкими штанинами. До Илюши у штанин, писая, как песики, на ботинки громилы, выступали комсомольские поэтики: лупоглазый Женя со своим тогда еще молодым кадычком и золотушный подвывный Андрюша, который любил сидеть сразу на двух стульях — в ЦК комсомола и в Госдепартаменте. Эти комсомольские вытики пели про свои Братские ГЭС и треугольные груши, и девицы от их вытья восторженно писали по биссектрисе. А тут появился маленький кривоносый с чуть дрожащим, но очень убедительным голосом Илюша и поведал восторженным идиотам, наконец свыше освобожденным от сталинизма, что СССР — это не держава, а гнусное скопище одичалых дикарей, не способных к самостоятельной политической жизни, и что СССР надо отдать минимум на столетие под протекторат ООН. Находившиеся до этого в радостном просветлении слушатели шестидесятых как-то затихли и приуныли от таких речей, и у них сразу пропало желание щупать, где надо и не надо, своих дам и рукоплескать Жене и Андрюше. Илюша был гораздо прозорливее многих тогдашних диссидентов — будущих демократов. Действительно, бывший СССР казался неспособным к нормальной политической жизни и нуждается в опеке. Но и сама ООН, к которой тогда взывал Илюша, постепенно и не сразу превратилась в некое подобие Лиги Наций эпохи Даладье, Чемберлена и Муссолини, и мало кого радуют голубые каски, которые не всегда исполняют роль санитарного контроля над безумством. Когда Илюша кончил свою речь и сошел с возвышения, то публика расступилась перед ним, как перед архиереем. Илюше дали самостоятельно уйти с Маяковки, но прошел он недалеко, до Музея Революции. Там его схватили чекисты и повезли прямо в Лефортовскую тюрьму. Произошло это у ворот музея с белокаменными готтентотскими львами, стерегущими зеленые пушки, из которых большевики расстреливали в 1917 Кремль. Вообще, все большевистские символы в Москве напоминают памятники Кортеса в Мехико, истребившего древнюю столицу инков. Илюше дали пять лет в политической колонии строгого режима в Мордовии на станции Потьма. Отсидев, Илюша приходил ко мне в мастерскую на Таганке и долго рассказывал о лагере. Из его рассказов мне более всех запомнился рассказ о бывшем бургомистре города Харькова при немцах — пожилом очень умном господине, прикидывавшимся животным из самосохранения. Он оправлялся в брюки и поедал собственные экскременты, желая казаться безумным. Когда Илюшу поместили с ним в карцер, бургомистр, озираясь, вполне разумно его спросил: «Вы здесь в первый раз, молодой человек? Я здесь уже третий десяток размениваю и скажу вам только одно — не ждите от них пощады», — и замолк, продолжая далее, как Мопассан, прикидываться животным. Про Мопассана написал один современный ему газетчик: «Перед концом жизни господин де Мопассан превратился в животное, ходил на четвереньках и поедал собственные экскременты». Не знаю, написал ли Илюша книгу о своих лагерных впечатлениях, но уверен, она бы у него получилась интересной.
Но самым поразительным еврейским героем, напоминавшим времена Иисуса Навина, был Наум Ромашкин. В то время, когда возрастал я, интеллигентский мальчик с хулиганскими наклонностями из недорезанной дворянской семьи, кругом было царство величайшего страха. Все всего боялись: боялись коммунистов и чекистов до последнего самого крайнего ужаса. Ни о каком сопротивлении никто даже думать не смел, только бы забиться в щель и выжить. А ведь герои были: смело умирали бывшие эсеры, анархисты, люди из повстанческих армии Антонова. Вот русскую интеллигенцию и предавший царя офицерский корпус большевики истребили, как бессловесных овец, все они умирали тихо и покорно, так как предварительно предали себя сами, подготовив всей своей жизнью пришествие большевиков и расчистив им дорогу. Когда Сталин накануне войны вырезал ленинский офицерский корпус победителей Врангеля и Колчака, то советские генералы перед смертью на Лубянке выкрикивали: «Да здравствует Сталин!», надеясь этим спасти свои семьи. Героизма в их истерических воплях не было — это было обычное русское подлое скудоумие. Уж лучше бы они, попав в полное дерьмо, умерли молча. Они, победители белых, оказались в абсолютнейшем полнейшем дерьме. Их, гордых соколов революции, загнали в угол и мочились им в глаза. На показаниях Тухачевского, где он признавался, что он германский шпион, видны выцветшие капли крови, которая капала из его разбитого гордого дворянского носа семеновского гвардейского офицера. Тем более был поразителен подвиг Наума Ромашкина. Наум Ромашкин был видный работник Госплана, ведавший контактами с Китаем. Это был тихий еврейский советский лысеющий интеллигент в очках. Его немного трясло от энцефалита. Отъявленным красным фанатиком он был с детства. Его мать работала в ранние тридцатые в советском полпредстве в Латвии, и он вступил в латвийские пионеры, и его еще в детстве били ульманисовские полицейские. В общеобразовательной школе, которая помещалась на Никольской, в здании греколатинской академии, вместе с отцом и Наумом там учился еще один герой — некий Юрий Шепчинский (красавец из польской шляхты, возглавлявший эсэровскую организацию молодежи), всю жизнь просидевший