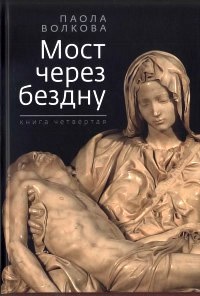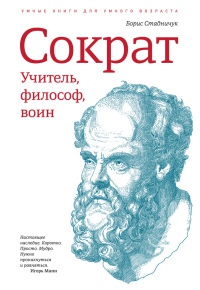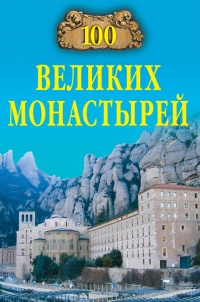Книга Унесенные за горизонт - Раиса Кузнецова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мое любимое, родное Солнышко! Разве в моей груди нет переполняющей неизбывной нежности при одном воспоминании о тебе! И разве не большее бессилие испытываю я, если бы вдруг захотела в словах вылить все. О стройности в моих речах не может быть и речи. Не может быть речи и о моей работе. Особенного удовлетворения от учебы не испытываю. Зависит это от системы нашей учебы. Все время голая книга. И ползаешь в ней, выкапываешь смысл жизни и понятие «трудовых затрат» или бесчисленные доказательства на тему, является ли статистика наукой или методом в науке. Читать ничего, кроме «Исанки», не читала. Об этом писала, чтобы ты прочел. Когда прочтешь, напиши свое мнение, и я изложу тебе свои мысли. Комичного или чего-нибудь вообще из ряда выходящего у меня ничего нет. О твоем комичном скажу: с искренним удовольствием хохотала, переживая, так ярко и красочно переданные тобой все перипетии разговора с Главбухом. Тебе что-то не везет на начальство. Жаль, безусловно, что потерял место. Но меня изумляет одно: ты как будто идешь по своей старой профессии! Неужели ничего нельзя предпринять другого? И потом: в наших условиях такая причина отказа кажется нелепой. Нужно было доказать, что это абсурд, если доказать не ему, то лицам, стоящим выше его. Я бы назло это дело не оставила.
Солнышко! Если ты весьма опечален тем, что не умеешь писать серьезные письма ― то бери пример с меня. Я опечалена обратным. Мое письмо отдает такой сухостью и резонерством, что мне хочется тысячу раз предупредить тебя, что нежностью я вся переполнена, но что я могу сделать, если я не умею переливать эту нежность на бумагу. Переписываться с Жоркой мне было легче. Там мы оба были апостолы, причем он апостол высшего порядка, а я пониже. Вообще писать нелюбимому легче, ибо все написанное кажется прекрасно сказанным и выражающим все, что хотел сказать, а тут...тут... так хочется сказать много, что, что бы ни написал, все кажется мало и не выражающим истинных чувств.
Любимый мой, родненький Аросенька! Как бы я хотела быть рядом, тесно прижавшись к тебе, разговаривать глазами. Ты знаешь, Солнышко, какая бездна горячего чувства в твоих синих глазах была, когда мы ехали в трамвае. Мне было так больно и так сладко, сжималось сердце, как будто впервые я познала всю глубину наших чувств, нашей любви. Только теперь познала я всю прелесть, всю сладость наших встреч, нашей любви. Ты, Арося, мое лучшее Я. Мое светлое Я.
Но я все же не вижу в проходящих мимо тебя! Обстановка так не похожа на нашу, что даже мысли у меня не было, чтобы мое Солнышко было здесь. Тебя я видела во сне. Не знаю, не помню как, но я проснулась улыбаясь ― я вспоминала, что ты, твой образ были этому причиной.
Любимая! Ответь письмом,
Нежным, как росы на травке,
Таким, чтоб в сердце восстал горячо
Твой образ, единственный, горький и сладкий.
Так ты просишь ответить. Боюсь, что я не сумею отразить в письме твоей просьбы, но, мое чуткое Солнышко! ― ты поймешь то, что между строчками. Мое сердце, оно бьется в унисон с твоим, вместе с тобой мысленно перечитываю я письмо, изумляюсь его нескладности и все же вижу в глазах твоих ― ты понимаешь меня, ты любишь свою Кисаньку! Иначе, разве была бы Кисанька так счастлива, читая твои письма, читая в них всю глубину, всю непосредственность твоих чувств. Арося! Знаешь, мне все же, я скажу тебе по секрету, тяжело жить в этой казенной обстановке. Мне надоел этот вечный шум, хлопанье дверей, разговоры, шаги... Они мешают мне сосредоточиться, в голове у меня пустота. Я надеюсь привыкнуть и ловлю себя на мысли, что мечтаю об иных условиях работы. Эти условия необходимо создать. В общем же, я писала в первом письме о моих материальных возможностях. Но теперь у меня есть еще одна надежда ― устроиться на работу, и я, еще не видя результатов, уже мечтаю. Мечтаю об изолированной небольшой комнатке, главное, ― чтобы близко от университета. Сейчас же я живу в получасе ходьбы от ун-та. Ночью ходить очень страшно.
У меня есть теперь новоприобретенная приятельница, друг ― Тося. Страшно славная девчонка. Смуглая, круглая и довольно интересная. К тому же на все руки и ноги ― поет и пляшет. Это с ней мы здесь организовали Синюю Блузу, это с ней я собираюсь изолироваться, и это она, кого я целовала по твоей просьбе. Мы с ней обе умирали со смеху, когда читали сцену с Главбухом. Ты, конечно, извини, но у меня скверный характер ― я не могла не поделиться с ней своей радостью, твоим первым письмом, не могла скрыть своих чувств и рассказала ей многое о тебе. Это было необходимо для меня ― я должна была кому-то вылить переполняющие меня чувства. И я это сделала. Скажи, обижает тебя это? Ты не сердишься, Солнышко? Я тебя очень люблю повторяю это слово ря
дом с твоим именем бесконечное число раз, закрываю глаза... и вот ты... рядом. Солнышко! Чувствуешь ли ты, как тяжело мне здесь, когда.... Когда я хочу твоих... поцелуев... Я закрываю глаза... но я не чувствую тебя... вокруг высокие белые стены, окна... и я одна, тебя нет рядом. Любовь моя! Пиши! Ты знаешь, ведь, читая строчки твоего письма, я ощущаю тебя, не лишай меня этого.
Кисанька
P.S.
Люблю тебя ― А письма прячь дальше, над нами могут смеяться.
Как здоровье мамы? Пиши! Целую... сколько хочешь раз.
Арося ― Рае (15 ноября 1929)
Моя милая Кисанька! К тому моменту, когда я должен получить от тебя письмо, я точно многоэтажное здание сообщений, мыслей, фактов, но когда я сажусь тебе отвечать, все это проваливается черт знает куда и взамен всех этих умствований громадное удушающее чувство наполняет меня. Но о чувствах трудно писать, особенно о своих. Это неблагодарная задача ― репортерствовать о своем же поражении! Потому что думать о другом больше, чем о себе, о другом, чье мясо натянуто не на мой же скелет, это значит действительно поразить самого себя...Но такое поражение радостно, особенно тогда, когда тот, кто поразил меня, так же поражен и мною. И я счастлив, Кисанька, от многих строк твоего письма.
Я не хочу больше писать о чувствах! Я хочу их сохранить в себе! Я не хочу освобождать себя от них, расплескивая их словами. Даже на страницах письма, предназначенного тебе. Вообще, я немного потерял голову, Кисанька, и ты мне извини, что, может быть, я пишу здесь непонятные глупости.
У меня все по-старому. В октябрьскую годовщину широкая рожа часов с насмешливым черным ртом стрелок, когда я проснулся, хохотала на стене, скривив стрелки на 11 и 12.
― Ага, мерзавец! Значит, ты не идешь на демонстрацию!- сказал я себе. ― Значит, ты попадаешь в лагерь контрреволюции, мерзавец! Одевайся и беги!
Я прямо с кровати мигом руками и ногами попал в брюки и рукава рубашки, плеснул в лицо кружку воды, ошпарил горло чаем, подавился хлебом, взметнул над собой пальто, как флаг, вскочил в галоши, как в седло, и, держа наперевес пику праздничного настроения, выбежал за ворота. На улице я отдал мальчишке нашего хозяина галоши, чтобы он их отнес домой -ходить в них тяжело, ― и попер на Серпуховку.
Но тут...О! мудрые порядки общественного устройства! На Серпуховке все выходы на площадь заткнуты милиционерами, как бутылки пробками. Милиционеры стоят в горле улицы, в черных мундирах, как тараканы на припечке.