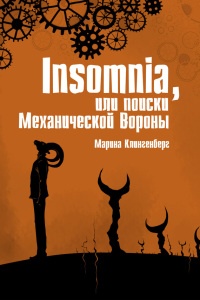Книга Морок - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В горячке чуть было не добавил: «По кустам меньше шастать надо», но вовремя спохватился и прикусил язык.
– Яков Тихонович…
– Погоди. Ты своей головкой разумеешь – с планом и так худо, а тут еще… Надо было…
Электрик со злостью бросил отвертку на землю, выпрямился и перебил Якова Тихоновича:
– Хватит тебе разоряться! Выслушай сначала, а то налетел, как петух! Она седни с утра сама эту зеленку возила. А тракторист твой с похмела лежит, воронкой кверху. Вот на него и спускай лайку. А мотор давно выкинуть надо! Весной еще говорил!
– Ты, ты… – задохнулся Яков Тихонович.
– Николаем меня зовут, Завьяловым. Однофамилец твой. Бабка говорит, даже родня какая-то. – На молодом плутоватом лице электрика хитро посверкивали глаза.
Яков Тихонович знал, что перегибает палку, но остановиться не мог. И долго еще воспитывал Любаву, а заодно с ней и однофамильца. Вот ведь натура! Чувствовал за собой дурную слабость, стыдился ее, а совладать не мог. Пока пар не выпустит, не успокоится. Так и сейчас. Отдышался, позвал Любаву, и они пошли осматривать летнюю дойку. Придраться было не к чему. Оставались только скважина да тракторист, с которым еще предстояло разобраться. Что ни говори, а толковая она, Любава, такую хозяйку поискать надо.
– Не могла вчера сразу про этого алкаша сказать? – примирительно спросил Яков Тихонович.
– Вы же с утра на поле… Думаю, пока туда-сюда, только время потеряю.
– Ну, я с его спрос устрою, – с тихой угрозой пообещал Яков Тихонович. – Следи, чтобы зеленка не переводилась.
Он вышел из будки, постоял еще, хмуро взглянул на Любаву – извиниться бы, да язык не поворачивается. Пробормотал:
– Ну давай, хозяйствуй тут.
И пошел к кошевке.
– Яков Тихонович, до конторы меня подвезете? Отчеты еще надо за месяц составить.
– Садись.
Поехали молча. Яков Тихонович косил глаза на свежее, румяное лицо Любавы, на ее толстую пшеничную косу, переброшенную через плечо. Любовался и злился одновременно. Ну, с чего, спрашивается, вильнула хвостом, с какого квасу за Бояринцева выскочила? Дождалась бы Ивана, поженились бы, Яков Тихонович теперь бы внучат тетешкал. А так – ни богу свечка, ни черту кочерга. Непорядок. Яков Тихонович хлестнул Пентюха концами вожжей, тот недовольно мотнул головой, но шагу не прибавил, словно хотел показать хозяину: не следует срывать плохое настроение при помощи вожжей, которые смачно и больно прилипают к широкой спине.
Любава, будто застыв, смотрела вперед остановившимися глазами. Иногда она поднимала руку, поправляла волосы, и Яков Тихонович замечал, как у нее вздрагивают пальцы. Ему хотелось узнать – о чем так глубоко и затаенно думает Любава, но он боялся спугнуть ее неосторожным вопросом и тоже молчал, привычно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к далекому гулу комбайнов, который едва доносился.
Любава думала о письме. Оно пришло вчера от мужа. Обыкновенный листок из школьной тетради в клеточку, а столько боли, столько острых, как иглы, воспоминаний, столько вопросов содержал он в себе, что от тревоги, от ожидания – что же дальше? – впору было задохнуться. А решать надо сейчас, ничего не откладывая на потом, времени у нее осталось немного. Виктор Бояринцев писал, что он попадает под амнистию, что за хорошую работу ему сбавляют срок. Если ничего не случится, он скоро приедет домой. Заканчивалось письмо коротким выразительным словом – ждите. Для Любавы оно дышало зловещей неизвестностью. И все ее существо взрывалось, бунтовало, не хотело, она снова, как в омут, с головой опрокидывалась в прошлое, заново переживала пять лет семейной жизни, и ей хотелось только одного – отчаянным голосом закричать: «Не хочу-у-у!» Любава вздрогнула. Крик нарастал и набухал в ней, готовый вырваться. Боялась, что не сдержится. Но ведь легче после крика не станет. Он не избавит ее от решения одного-единственного вопроса – что же дальше?
Пентюх, завидев впереди крайние дома деревни, побежал быстрее. У мерина была своя, годами выработанная тактика: чем ближе к конюшне, тем охотнее он бежал, и наоборот. Яков Тихонович только головой качал: ну и хитрец сивый.
Колеса зашуршали громче, кошевка стала поскрипывать. Дорога нырнула в лог, выскочила из него – и вот она, Белая речка. Яков Тихонович поднял глаза, наткнулся взглядом на три сухие березки, не удержался и про себя матюкнулся. Никак не мог привыкнуть. До прошлой весны березы стояли здесь живые, зеленели, когда полагается, в срок желтели, зимой одевались в белый иней и в морозном тумане словно плыли впереди деревни. За долгие годы к ним привыкли. Белую речку без берез уже нельзя было представить, как родной дом нельзя представить без знакомого крыльца. Откуда бы ни возвращался, выберешься из лога, глянешь – стоят, всегда нарядные – вот теперь дома. До прошлой весны так было. А весной, в распутицу, забуксовал здесь на своей машине Виктор Бояринцев. Елозил, елозил, выцарапался с разбитой дороги и попер, чтобы не потерять разгон, задним ходом по полю. Хряснул кузовом в березки. А много ли им надо? Тонкие стволы хрустнули, яркая весенняя листва обмакнулась в грязь.
Яков Тихонович, помнится, долго ругал Виктора. Жалко было березок, деревня без них словно осиротела. Отругав, он велел Виктору привезти осенью из колка точно такие же березки и посадить.
Виктор сделал, как велели. Но березки не принялись. Стояли после долгой зимы с жалко растопыренными ветками, и даже почки не набухли у них, остались съеженными и сухими. «Может, примутся», – всякий раз, проезжая мимо, надеялся Яков Тихонович. Но березки продолжали стоять голыми и серыми, береста отстала и лохматилась, когда дул ветер, она неприютно, сиротливо шуршала.
Сейчас, глядя на деревья и продолжая думать о них, Яков Тихонович вслух сказал:
– Пересадить надо будет. Новые из колка привезти. А может, еще примутся, как думаешь?
Повернулся к Любаве, ожидая ответа. Любава обожгла сухим блеском глаз, дернулась вбок, словно хотела выпрыгнуть из кошевки, и крик, который набух и давил ее изнутри, вырвался:
– Не примутся они! Не примутся! Он корни отрубил!
– Как это… отрубил? – Яков Тихонович бросил вожжи.
– Топором!
Не сдерживая себя, не справляясь с вырывающимся криком, Любава на ходу выскочила из кошевки, пошла куда-то вбок от дороги, прямо по полю, вдруг зажала лицо руками и побежала, неловко спотыкаясь, к деревне. Ошарашенный Яков Тихонович остановил Пентюха, слез с кошевки, несмело подошел к березам. Отставшая кора сухо шуршала. Он оборвал несколько берестинок, растер, сдул с ладоней белую пыльцу, помедлил и крепко ухватился за тонкий ствол. Тот легко поддался. Яков Тихонович вытащил его из земли. У основания ствол был полого и остро затесан, как обычно затесывают колья для изгороди. Дерево успело почернеть, но и сейчас еще было заметно – затесывали со старанием, аккуратно, словно ровняли рубанком.
– Да как же он… – растерянно бормотал Яков Тихонович, опускаясь на корточки и разглядывая ствол. – Для чего…