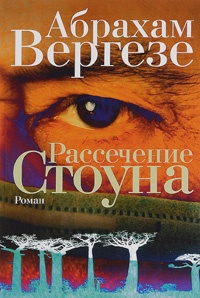Книга Живи и радуйся - Лев Трутнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Медленно, наплывно стал я ощущать особую легкость, будто нечто тяжелое, мучившее меня несколько дней, вдруг скинулось в этот истоптанный людьми снег, в эту стынущую сумеречность глухой улицы, а напористый ветер развеял и пепел этого нечто, и золу моих сгоревших грез.
* * *
– В понедельник в город поеду, военкомат посылает. – Мы, отпрыгавшись в холодном сарайчике, уже промороженном, неуютном, присели на чурках всего на пару минут – большего вряд ли можно было позволить под жесткими сквозняками, распарившись в тренировочных упражнениях.
Комиссию, что ли, буду проходить там. На какое-то особое училище намекают…
Да, кому, как не Виктору, не по годам ловкому и сильному, с крепкой смекалкой, в «особые» прямая дорога? Легкая грусть паутинкой оплела сердце: еще с одним, дорогим мне человеком скоро предстояло расстаться и вряд ли быстро или даже вообще найдется ему замена. Не видно ее ни с какой стороны в ближайшей прикидке.
– А как ты до города будешь добираться? – спросил я совсем не о том, о чем хотелось.
– До станции на каких-нибудь попутных машинах доеду, а там – поездом. – Виктор глядел куда-то в темный угол сарайки. – Ты пока возьмешь перчатки и грушу. Пропускать тренировки нельзя.
Предложение его обрадовало, но не настолько, чтобы снять грусть намечавшейся разлуки.
– Так ты уже насовсем, что ли? – забеспокоился я.
Виктор светло улыбнулся.
– Да нет. Пока предварительно. Но сколько там пробуду – неизвестно…
Смутные воспоминания о городе тронула память, и я притих.
– Ну, – Виктор поднялся, – пойдем в дом, а то простудиться можно…
1
Зима пошла в разгул. Заплясала в промороженных проулках поземка, наслаивая сугробы, закружились в снежной кисее налетные метели, подкатили морозы с потрескиванием сдавленных стылостью деревянных построек. За треть часа ходьбы до школы по темным улицам с тонким звоном высушенного стужей воздуха, с резким хрустом сыпучего снега под ногами, холод не только жег лицо, но и прошибал ветхую одежонку. Еще долго, в тепле, острая ломота вгрызалась в мякиши рук и ног, заливая их жаром. И не до беготни было в широком школьном дворе. Ожидая звонка на уроки, ученики все больше толпились вблизи огромной печки, подпирающей потолок своей округлой громадой обтянутой жестью в черной лоснящейся краске. Там, на доске объявлений, на которую я раньше не обращал внимания, в виньетке листка бумаги, раскрашенной цветными карандашами, сообщалось о начале работы кружка рисования и приглашались все желающие. Даже сами по себе цветные карандаши были еще недавно редкостью и радуга их цветов ласкала взор, а уж вежливый зазыв учиться рисованию и вовсе удивил.
Еще с глубокого детства, как только пальцы мои стали удерживать карандаш, тянуло меня к рисованию, и что-то вполне понятное изображал я на бумаге гораздо раньше, чем научился читать. А читал я бегло еще до школы. Потому и повлекло меня в этот кружок, и после уроков, с затаенным дыханием, я пошел в указанный кабинет.
* * *
Худощавый и длиннолицый учитель рисования Павел Евгеньевич Еланский вначале мне не приглянулся. Два или три занятия подряд он ставил на стол деревянный конус с цилиндром и заставлял рисовать. Не грел душу этот пустой неживой рисунок, тянуло попробовать себя в чем-то более сложном и интересном. И все хотелось сказать об этом учителю, но меня опередил один из кружковцев.
Павел Евгеньевич поглядел его рисунок, достал из большой папки кусок картона и сказал:
– Подойдите все к столу со своими рисунками.
Мы потянулись, не понимая, к чему клонит учитель.
– Теперь разложите рядком то, что вы изобразили. – Тут же он перевернул картон и пристроил его сверху. На белой его стороне четко, будто наяву, стояли конус и цилиндр. Мягкие оттенки до того обыгрывали эти предметы, что хотелось их потрогать. – Видите разницу? – Павел Евгеньевич щурился, пытливо поглядывая на нас.
Наши рисунки, вроде бы и точные, и соразмерные, выглядели жалкими поделками в сравнении с истинным мастерством.
– Вот когда у вас так же оживут эти фигуры, тогда и пойдем дальше. А скакать на что-то более сложное, не освоив простое, только во вред делу…
Потом он показал нам некоторые свои этюды, журнальные иллюстрации картин великих художников в цветном исполнении. С затаенным восторгом, в оторопелом изумлении толпились мы вокруг стола, впервые соприкоснувшись с великим дивом искусства. И, вероятнее всего, тогда я понял, насколько высока духовная сила таланта, дарованная человеку Богом, которую несет он людям в превратных муках. И только они – эти муки, перепеленывая человека в житейских немилостях, в отраде сжигающей работы, способны поднять творчество на высоту чародейства – близкого к святости. Тогда задохнулся я от глубины тех преодолений, через которые нужно пройти, чтобы немая живопись заиграла перед людьми изумляющей подлинностью жизни. Но молодо-зелено, не испугался я маячивших трудностей, прирос к кружку, и прежде всего к Павлу Евгеньевичу. И еще больше, когда заметил его некоторые симпатии ко мне. А потянулось это с того, что я начал дольше всех задерживаться на занятиях кружка, стараясь добиваться в заданной работе того предела, на какой был способен, и Павел Евгеньевич, видя мое упорство, стал доверять мне ключи от учебного класса по рисованию. И нередко я возвращался домой уже глубокими вечерами, когда не оставалось прохожих, и лишь освещенные окна сгрудившихся друг к другу домов обозначали размах улиц, их ориентированную даль. Стылый воздух натягивал дымок от топившихся печей, запахи жилья, оград, тлена…
Дольше всех выстаивал Павел Евгеньевич и у моих рисунков, хотя хвалил редко, сдержанно.
– Есть у тебя задатки художника, – как-то с прищуром то одного, то другого глаза разглядывал он мой карандашный набросок, – учиться тебе надо, дальше тянуть эти способности. Глядишь, этак лет через двадцать, – Павел Евгеньевич улыбнулся, – и услышим новое имя в живописи…
Эко он хватил – через двадцать! Конца и края тем годам не видно: где-то они за горизонтом сознания. Есть ли резон тянуть бурлакскую лямку к тем вешкам, которые еще не обозначились даже в мечтах? Хорошо бы сразу, по выросту, заявить о себе. Но подсознательно я понимал, что такого не будет, хотя мой пыл к рисованию от этого ничуть не гас. Даже боксерскую грушу, закрепленную на косяке дверей, я стал колотить с меньшим энтузиазмом, чем раньше, отводя больше времени карандашу и бумаге. Марал я много, а денег на покупку блокнотов для рисования, появившихся в продаже в книжном магазине, не было. И тут помог Павел Евгеньевич, без просьбы поняв мое положение, – из своих запасов подкинул бумаги. Да какой – ватманской, о которой я и не слышал! А в один из вечеров учитель пригласил меня домой. Жил он с сестрой – тоже учительницей – неподалеку от школы в казенном деревянном доме, занимая одну его часть из двух комнат. Встретила нас Ольга Евгеньевна с ласковым приветом. Худенькая, с пытливыми большими глазами серого оттенка – она преподавала в младших классах нашей школы, и нередко я видел ее юркую, с журналом в руках, спешащую на уроки.