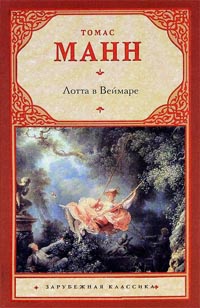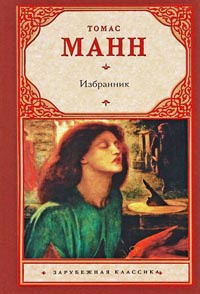Книга Будденброки - Томас Манн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но жалоб Христиана никто не принимал всерьез, так же как и его «представлений», ему даже не отвечали — просто все отошли от него. Христиан посидел еще перед театром, время от времени щурясь и бросая быстрые взгляды на сцену. Наконец он встал.
— Ну что ж, мой мальчик, забавляйся этой штукой, — сказал он, гладя Ганно по волосам, — да только не слишком, и за бездельем не забывай дела, слышишь? Я совершил целый ряд ошибок… А сейчас мне пора в клуб… Я только на минуточку загляну в клуб! — крикнул он взрослым. — Там они тоже справляют рождество. До свиданья! — И на своих кривых негнущихся ногах ушел через ротонду.
Сегодня все обедали раньше, чем обычно, и потому усердно принялись за чай и бисквиты. А тут как раз внесли в больших хрустальных мисках какую-то желтую зернистую массу. Это был миндальный крем — удивительно вкусная смесь из яиц, тертого миндаля и розовой воды; но, увы, даже одна лишняя ложечка этого кулинарного изделия пагубнейшим образом отражалась на желудке. И все же ему воздали должное, хотя консульша и напоминала, что «следует оставить местечко для ужина». Что касается Клотильды, то она поистине творила чудеса. Молчаливая и благодарная, она уписывала миндальный крем, словно гречневую кашу. Вслед за миндальным кремом подали «для освежения» еще и винное желе в стаканчиках, которое полагалось есть с английским кексом. Мало-помалу гости с тарелками в руках перекочевали в ландшафтную и сгруппировались там вокруг стола.
Ганно остался один в столовой, так как маленькую Элизабет Вейншенк увели домой, ему же в этом году впервые разрешено было ужинать на Менгштрассе вместе со взрослыми. Прислуга и бедные ушли, забрав свои подарки, а Ида Юнгман оживленно болтала в ротонде с Рикхен Зеверин. В обычные дни она, блюдя свое достоинство воспитательницы, ни в какие фамильярные разговоры с «камеристкой» не пускалась. Свечи на большой елке догорели и потухли; вертеп погрузился в темноту; но отдельные свечки на маленьких деревцах еще догорали: то один, то другой огонек добирался до ветки, она вспыхивала, потрескивала, и запах, стоявший в зале, становился еще ощутимее. От малейшего дуновения золотая мишура начинала трепетать и звенеть тонким-претонким металлическим звоном. Потом опять наступала полная тишина, и с дальних улиц по морозному воздуху доносились приглушенные звуки шарманки.
Ганно с наслаждением впивал рождественские ароматы и звуки. Подпершись кулачком, он читал свою мифологию, ел — отчасти машинально, отчасти потому, что все было «рождественское», — конфеты, марципан, миндальный крем, английский кекс, и смутная грусть — следствие туго набитого желудка, смешиваясь со сладостным возбуждением этого вечера, наполняла его каким-то блаженным томлением. Он читал о битвах, которые пришлось выдержать Зевсу, чтобы достигнуть высшей власти, и прислушивался к разговору в соседней комнате — там подробно обсуждалась будущность тети Клотильды.
Клотильда в этот вечер была, бесспорно, счастливейшей из всех и с улыбкой, освещавшей ее серое лицо, выслушивала поздравления, как, впрочем, и поддразнивания, сыпавшиеся на нее со всех сторон. Голос ее срывался от радостного возбуждения: она была принята в «Дом св. Иоанна». Сенатор устроил это без особой огласки, через орденский «совет управления», хотя кое-где и прошел шепоток о непотизме. Сейчас в маленькой гостиной говорили об этом достославном заведении, организованном наподобие таких же благотворительных заведений в Мекленбурге, в Доббертине и Рибнице[123], опекавших неимущих девиц из местных почтенных семейств. Бедной Клотильде была отныне обеспечена небольшая рента, которая должна была возрастать год от года, а под старость даже уютная чистенькая квартирка в самом «Доме св. Иоанна».
Маленький Иоганн потолкался немного среди взрослых и вернулся обратно в большую столовую, уже не сиявшую огнями и не внушавшую более трепета своим сказочным великолепием, но исполненную теперь другой, новой прелести. Как замечательно бродить здесь — точно по полутемной сцене после окончания спектакля, время от времени заглядывать за кулисы, рассматривать на большой елке лилии с золотыми тычинками, брать в руки фигурки людей и животных из вертепа, отыскивать свечку, которая горела за транспарантом, изображающим звезду, взошедшую над яслями в Вифлееме, и, наконец, приподнять свисающую до пола скатерть, чтобы увидеть груды оберточной бумаги и картонных коробок, наваленных под столом.
Разговор в ландшафтной становился все менее занимательным. В силу горькой неизбежности он опять постепенно свелся к весьма неприятной теме, не перестававшей занимать все умы, хотя, блюдя праздничную торжественность вечера, ее и пытались обойти молчанием: к процессу директора Вейншенка. Гуго Вейншенк сам заговорил о нем с какой-то неестественной бойкостью в голосе и жестах. Он сообщил подробности опроса свидетелей, прерванного на время праздников, с неподобающим озлоблением обругал председателя доктора Филандера за его явно предвзятое отношение к делу, подверг высокомерной критике насмешливый тон прокурора, который тот счел уместным принять в отношении обвиняемого и свидетелей защиты. Но так или иначе, а Бреслауэр сумел весьма остроумно парировать все неблагоприятные показания и заверил Гуго Вейншенка, что обвинительного приговора пока что опасаться не приходится. Сенатор из учтивости задал ему несколько вопросов, а г-жа Перманедер, сидевшая на софе, надменно вздернув плечи, время от времени призывала страшнейшие проклятия на голову Морица Хагенштрема. Остальные молчали… Молчали так упорно, что мало-помалу смолк и директор; и если для маленького Ганно там, в большой столовой, время текло неприметно, как в райских кущах, то в ландшафтной стояла гнетущая, напряженная, боязливая тишина, продолжавшаяся вплоть до половины девятого, когда Христиан вернулся из клуба, где праздновали рождество холостяки и suitiers.
Потухший кончик сигары торчал у него изо рта, ввалившиеся щеки порозовели. Он прошел через большую столовую и, войдя в ландшафтную, объявил:
— Ох, детки, до чего же красиво у нас в зале! Знаешь, Вейншенк, нам бы следовало привести сюда Бреслауэра. Я уверен, что он ничего подобного в жизни не видывал!
Консульша искоса бросила на него строгий, укоризненный взгляд. Но в ответ на его лице не изобразилось ничего, кроме вопросительного недоумения.
В девять все двинулись ужинать. Как и всегда в этот вечер, стол был накрыт в ротонде. Консульша растроганно прочитала традиционную молитву:
О, снизойди, Христос, к своим дарам,
Когда придешь ты в гости к нам! —
и, по традиции же, присовокупила к ней краткое, наставительное обращение к окружающим, в котором она призывала подумать о тех, кому в этот вечер не так хорошо, как семейству Будденброков. После этой маленькой речи все с чистой совестью уселись за обильный ужин, начавшийся с карпов в растопленном масле и старого рейнвейна.
Сенатор положил себе в кошелек несколько рыбьих чешуек, чтобы в нем весь год не переводились деньги. Христиан с грустью заметил, что ему, увы, и это средство не помогает, а консул Крегер уклонился от принятия сих мер предосторожности, заявив, что ему теперь не приходится опасаться колебаний курса, он со своими грошами давно уже в тихой пристани. Старик постарался сесть за ужином как можно дальше от своей жены, с которой он годами почти не разговаривал, ибо она все не переставала тайком посылать деньги Якобу, лишенному наследства сыну, — в Лондон, в Париж, в Америку. Ей одной было всегда известно, где он влачит свое жалкое существование безродного авантюриста. Консул Крегер помрачнел и насупился, когда за следующим блюдом речь зашла об отсутствующих членах семьи и сердобольная мать потихоньку смахнула слезы.