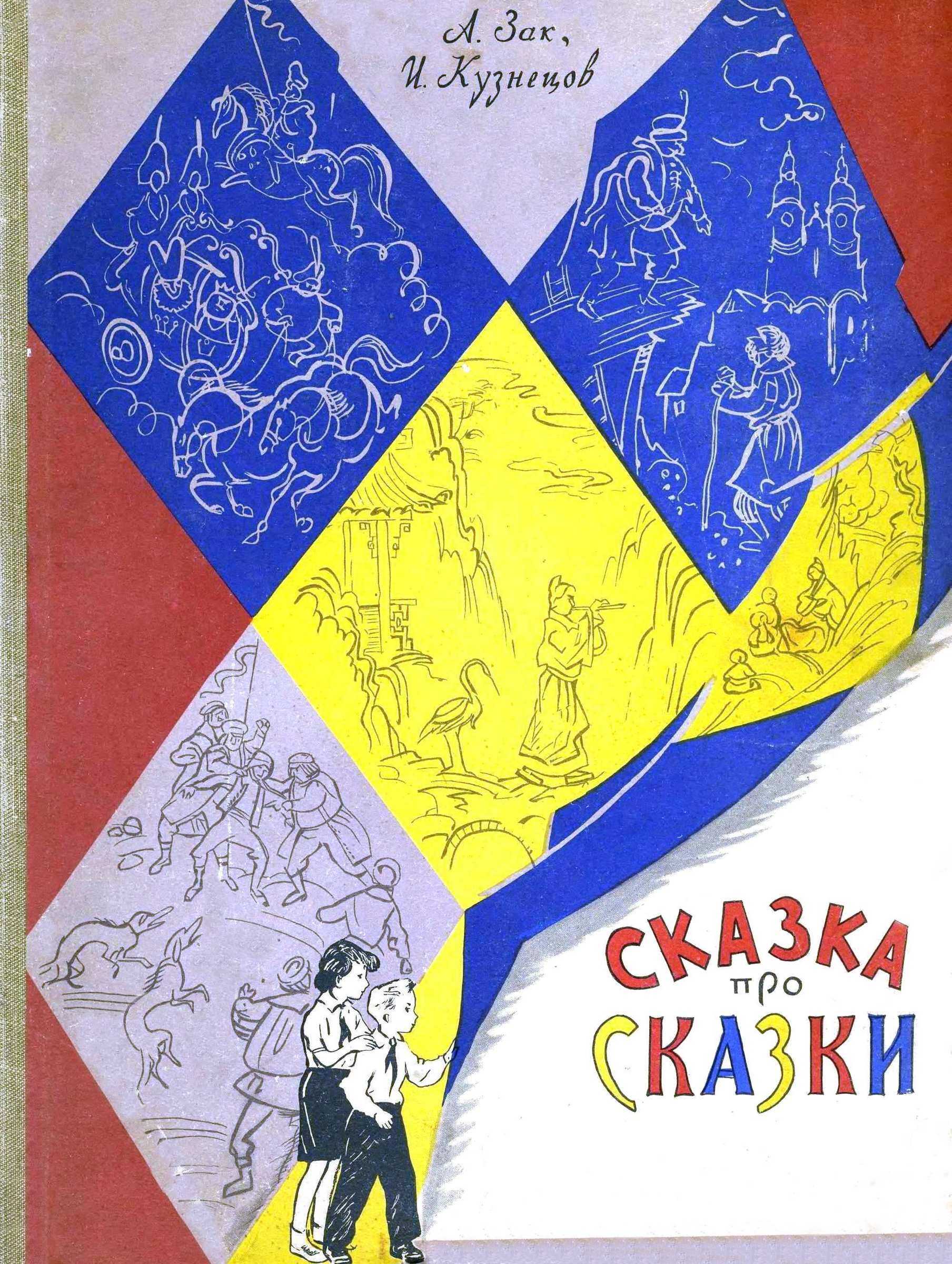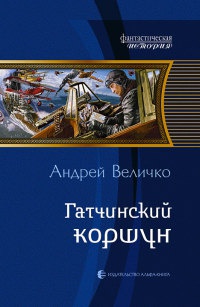Книга Корвет «Бриль» - Владимир Николаевич Дружинин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— И сегодня, товарищ Папорков, — продолжает Степаненко, — мы не имели «Последних известий».
Он подражает дяде Феде, и это бесит Изабеллу. Во-первых, ничуть не похоже!
— Атмосферные помехи, — величественно улыбается Боря. — Требовать надо от господа бога.
Он мог бы сказать еще, что Лавада вечно недоволен. Поймает Боря «Последние известия», запишет на пленку — все равно ворчит Лавада. Звук нечистый, свист, треск.
И музыку Боря дает неподходящую, всё джазы, оперетки, ничего серьезного… Зато Стерневой всегда хорош. Вчера он тоже не смог принять «Последние известия». И ничего, ему прощается.
— Ссылаетесь, Папорков, на объективные причины? — говорит Степаненко голосом помполита, и Костя покатывается. Только Изабелле не до смеха.
— Ой, ну вас, ребята!
Боря не успел удержать ее, — она уже выскочила из каюты, побежала на палубу. Упругий ветер встретил ее у выхода, толкнул назад, она схватилась за поручни. Океан открылся ей тревожный и пустой, только черная спина одинокого, наверно заблудившегося, дельфина обнажалась в толчее волн, в сумятице пены.
Ее потянуло назад, в тепло. Сзади грохнула дверь. Борька, подумала Изабелла и зажмурилась. Он или нет? Если Борька… Она так и не решила, что ей загадать, — он уже рядом. Это его дыхание, его плечо коснулось ее. Она открывает глаза. Боря стоит невеселый, бледный, зябко поводит плечами. Он вдруг показался Изабелле несчастным.
— Боря, — ее палец уперся ему в грудь, — брось ты, Боря… Вот увидишь… Дядя Федя…
Ветер раздувал ее волосы, они коснулись его щеки, и его потянуло поцеловать ее. Он тотчас смутился, и охота пропала, но он все-таки поцеловал ее. Он слышал, что девушки сами подставляют губы, ждут. А над робкими смеются. Боре представилось вдруг, что Изабелла тоже будет смеяться потом, и он чмокнул ее куда-то мимо губ. Она отшатнулась. Он удержал ее, поцеловал еще, и снова мимо — в правую бровь.
— Уйди, Борька, — сказала она. — С тобой серьезно, а ты…
— Что я?
— С ума сошел!
Лавада в это время был на мостике. Он поднялся туда без всякой надобности. Ему нравилось быть на командном пункте. Изабеллу и Папоркова он не заметил, так как беседовал с Стерневым. Радист просил указаний от помполита, надо ли записывать первомайский концерт из Москвы.
— Милуются, — сказал Стерневой.
Лавада обернулся. Внизу, на палубе, качался, держась за поручни, один Папорков.
— Сбежала, — доложил Стерневой.
— Не весь концерт, — мрачно отрезал Лавада. — По твоему выбору.
Он спустился по трапу и постучал к капитану.
Папорков между тем бродил по палубам без цели, взбудораженный, потрясенный. Изабелла сперва подалась к нему, потом вдруг оттолкнула. Как понять женщин?
Он глянул на часы и полез по трапу вверх: скоро вахта.
Нежное сияние вдруг легло на море. Через минуту Папорков забыл обо всем, даже Изабелла перестала существовать.
Море сказочно светится. Кажется, этот серебряный фейерверк, зажженный где-то в его недрах, вот-вот разгорится еще ярче, и тогда море станет прозрачным до самого дна. И откроются подводные просторы — многоцветные камни, заросли кораллов, стаи пестрых рыб, открытые зевы раковин-хищниц, терпеливо подстерегающих добычу.
Словно искорки взлетают брызги за бортом. Вон там выскакивает из воды расшалившийся дельфин, — должно быть, оторвался от хоровода морских существ, крутящегося в честь Нептуна. Или то была акула? Светится и рыбина, она вся в жидком огне. Боря вспоминает вдруг огни святого Витта, картинку из старой хрестоматии, — и задирает голову. Нет, такелаж и мечты черны, исчезают в ночном небе. Горит только море, вызывая у Бори странную тревогу. Кругом разлито смутное, трепещущее ожидание.
— Компас опять задурит, — раздается сзади.
Боря вздрагивает. Фантазия унесла его очень далеко от радиорубки, от Стерневого, только что принявшего вахту. Дверь рубки распахнута, мерцает электрическими зрачками рация, распираемая бурями эфира. Наплывает голос московского диктора. Его перебивает то пулеметная очередь морзянки, то всплески далеких струн, неведомо с какого берега.
В рубку залетает легкий, теплый ветерок, теребит расстегнутый ворот рубашки Стерневого, обвевает его большую голову в наушниках.
— Белая ночь, — усмехается Боря.
— В индийском варианте, — лениво урчит Стерневой.
Три дельфина появились на поверхности. Они переворачиваются разом, как по команде.
— Ансамбль пляски, — говорит Боря.
То был авангард, за ним всплыл целый косяк дельфинов. Папорков следит за ними, обмирая от восторга. Дельфины плещутся в расплавленном серебре.
Показать бы Изабелле!.. Он побежал бы к ней, привел сюда, — ведь отсюда так хорошо видно… Но она, наверное, рассердилась. Странный испуг удерживает Папоркова. Испуг, от которого слабеют ноги.
— Лавада пыль поднимает, — слышит Боря.
— Из-за чего?
— Ты спрашиваешь! Два голубка там ворковали на носу. Крестница его и один юноша…
— Пускай, — бросает Боря.
— Ты не афишируй! Окрутят же тебя, чудак! Эх, я бы на твоем месте!..
Боря отходит на шаг. Ничуть не интересно знать, что сделал бы Стерневой.
Море между тем гаснет. Мерцают только гребешки. Злясь на Стерневого, Боря провожает взглядом последние сполохи иллюминации, исчезающей в ночи.
— Резвись, мальчик, — вздыхает Стерневой. — Поплаваешь с мое…
Теперь уже не досада у Бори, тоска, жестокая тоска, до зевоты, до боли в скулах. Вот так всегда обрывается разговор со Стерневым. До чего же он скучный!
А ведь на первых порах казалось, с напарником завяжется дружба. Тогда Боря мог бы составить список достоинств Стерневого: любитель шахмат, любитель театра, не лишен чувства юмора. Людей без юмора Боря попросту не признавал.
— Ты радикулит не заработал еще? — доносится до Папоркова. — Подожди, схватит тебя…
Да, да, это всем известно. У Стерневого радикулит. Как-то раз в ответ на жалобы и вздохи Боря предложил подменить его на вахте. Стерневой отказался. Видно, не так уж он страдает. Говорит он о своем радикулите с явным удовольствием, по всякому поводу. «Кому прелести природы, кому радикулит», — бурчит он тоном многоопытного ветерана, утомленного суровой морской службой.
На пути в Индию, в Средиземном море, Степаненко — судовой комсомольский секретарь — устроил диспут на тему «Есть ли морская романтика?». Тут Стерневой еще раз всем напомнил о своем радикулите. Романтика, мол, кончается вместе с юностью, после первых рейсов, когда море поколотит человека как следует да сырость проберет до костей… А работа моряцкая такая же, как всякая другая.
И тут Стерневой, повысив голос, произнес несколько гладких фраз, взятых из газетной передовой. Советский, мол, человек на любом посту обязан…
Степаненко — тот отстаивал романтику. И «мастер» тоже. Боря заучил некогда, с энтузиазмом новичка, судовые звания на морском жаргоне: капитан — «мастер», старпом — «чиф», старший механик — «дед». Теперь он и мысленно не называет их иначе. Да, Алимпиев хорошо сказал о романтике. Море в любую минуту может потребовать таких