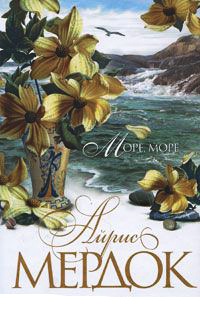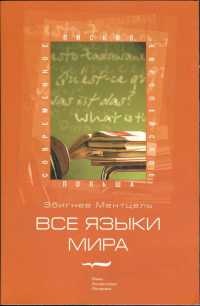Книга На суше и на море - Збигнев Крушиньский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С Анной …-увной (фамилия указана правильно) я познакомился на студенческой практике, в июле, в 74-м. Мое внимание привлекла ее стройная фигура, которая, когда Анна вылезала из рабочего комбинезона, была похожа на статуэтку, появляющуюся из глыбы материала. Относительно платья не уверен. Раз, кажется, в горошек, равномерно рассыпанный на ткани, другой — в клетку, волнами расходящуюся по материалу. Ходила она и в брюках, тогда еще не зауженных снизу.
Нас разместили в общежитии, на время каникул пустом. Над кроватью на стене висела соломенная плетенка, напоминавшая об уюте, а на шкафчике — там и сям вбитые гвозди для вешания на шнурке кухонной утвари. Мы работали на вагоноремонтном заводе, находившемся в другом конце города. На работу нас отвозил автобус, переделанный из грузовика и для верности снабженный надписью: «Внимание, перевозка людей». — «Товары, — шутили хохмачи, думая наверняка и об Анне, — товары, на выход!» Но никто не выходил, группа практикантов сохраняла образцовое единство, понимая, однако, что через минуту она будет разъединена работой.
Мы мели цеха, и без того довольно пыльные. Когда мы хотели сделать перерыв, то закрывались в каком-нибудь из вагонов, за окном пейзаж не перемещался и не останавливался, сдерживаемый семафором, только иногда кто-нибудь из рабочих качнет нас крюком портального крана, ища запчасти, которые достать им еще труднее, чем поймать рыбу. Там и произошло первое наше сближение, если то, что я присел рядом с Анной, можно считать сближением. «Не занято?» — спросил я. «Нет, — ответила она, — для нас ведь забронировано».
Помню, что другую жажду мы гасили скисшим молоком, которое привозили с молочного комбината, когда молоко не удавалось продать свежим, привозили его в литровых прозрачных бутылках с крышкой, вздутой от брожения, с сывороткой, подмывающей берега сливок. Мастер гонял нас не слишком. Когда пыль от метелок стояла в воздухе слишком долго, ремонтируемый вагон выглядел так, будто съехал с путей в пыльное поле, и тогда мастер просто брал шланг и поливал все помещение, не внемля нашим протестам. Мы сушились на солнце во дворе.
В три часа мы возвращались в автобус, грязные, потому что в душевой не работал душ. «Ничего с вами не станет, — говорил вызванный нами санитарный инспектор, — небось не шахта». Мы мылись над раковинами зернистой пастой, которая хорошо растворяла машинное масло, но оставляла красные пятна на коже, экзему на предплечье от локтя до запястья.
Вечером я ложился на койку. Все не мог заснуть, как после долгой дороги, вместо стука колес в ушах сто ял писк станков, это как бы все время тормозить, никогда при этом не останавливаясь. На потолке мне виделась Анна — перемещенная, потому что на самом деле она жила за стеной. Возможно, я инстинктивно хотел исправить ошибку, поскольку руководители практики заботились, чтобы парней с девушками не селить на одном этаже, так что мы были соседями не совсем легально, не по своей инициативе.
Вечером мы, как правило, ездили в Центр на тряском трамвае мимо находящегося в ремонте Имперско-Грюнвальдского моста. В глаза било солнце, заходящее где-то за костелом Девы на Песках, лебеди обнимались, а проходившее с левой стороны Воеводское управление отражалось в воде правильной аркой, выгнутой в сторону, противоположную излучине реки, так что течение, хоть и главное, было как бы заключено в скобки.
После практики я поехала домой. Оставила ему адрес. Первое письмо пришло где-то через неделю. Ян посылал привет. Я не ответила. Потом пришла открытка, не помню, что на ней было, но не исключено, что часы, возможно даже ратушные, ибо отправитель торопил с ответом. Получила ли письмо? Может, уехала? Все ли в порядке? И как мне нравится идея пойти в сентябре в горы, за неделю перед началом занятий? Он показался мне малооригинальным, в хвосте похода (родительный падеж, фамилия изменена) в Татры, к которому призывали и другие агитаторы. Помню руководителя на снимках: ходит наклонившись вперед, руки сцеплены сзади, в тужурке с развевающимися полами, так что в горах только споткнуться и рухнуть в пропасть. Вместо этого мы поехали на озеро, в палатку, комары заедали, а аир, если его прижать к губам, играл как кларнет. Недалеко от нас расположилась веселая компания, с лодкой и выпивкой. Трудно было отказать. Не выпить с пьющим, это вроде как оскорбить его. Мы не искали ссоры.
В конце июля, ничего не сказав, Анна уехала. К счастью, у меня был ее адрес. Я написал длинное письмо, пытаясь острить, что свойственно молодым. Она не отвечала, а я грешил на почту. Потом послал ей открытку, помню, с видом крутой горной тропы, трудно было достать в киоске на равнине открытку с горным пейзажем, так что ради этой единственной открытки я должен был купить весь набор, в который входили чуждые этой местности виды и памятники, рассеянные от гор до Балтийского моря. Я предложил ей совместный поход в Татры, с элементами альпинизма, не обязательно по гребню. Не помню, как так получилось, но мы оказались над безымянным озером, в совершенно другом антураже: заросли, болотистый берег, песок чистый, только когда подальше зайдешь в воду, а тогда, без грунта, он уже не нужен, тучи комаров, чомги.
Панибратского общения с пьяницами — как потом оказалось — со сбродом, нам не хотелось. Дело, собственно, ни в чем, просто одного добавочного промилле хватило, чтобы развернуть ситуацию на сто восемьдесят градусов. Пьяница чувствует, что его задели трезвые, бросается к лодке. Стартует в ночной регате, вот увидите, он вам докажет, а то как же иначе. Кто-то пытается удержать его, тот толкает, а этот падает. По воде, с середины озера несется несусветная мешанина песни и отрыжки. Вскоре все утихает, и поверхность снова становится гладкой, без ряби.
Я много раз представлял обстоятельства, при которых он утонул. В этом месте глубина три метра, а ночью дно — широты необъятной. Мы ныряли целый час, сразу же, как только доплыли до лодки. У меня буквально разрывало легкие, виски как тисками схватило. Что с того, что луна светила жемчужным светом? Вот уж воистину легче было жемчужину найти на дне. Его достали утром, далеко от того места, где мы бросили якорь.
Через полгода я познакомилась с родителями Яна. Он много о них рассказывал. Мать — в девичестве …-овская — была учительницей музыки, давала частные уроки, которые приносили в несколько раз больше, чем государственный оклад. В большой комнате было пианино для начинающих. Ян никогда не играл, говорил, что его преследует недовольное выражение лица матери, требовавшей более чистого звучания. Отец был фигурой загадочной.
Высокий мужчина, он служил в армии, но когда говорил о ней, складывалось впечатление, что он служит в какой-то другой армии, вражеской. Может быть, он провоцировал нас. Все, дескать, было по-идиотски, перевернуто с ног на голову. Склеротическое командование в состоянии разложения. Офицерский корпус занят ремонтом квартир с использованием цемента, выделенного на армейские нужды. Лишенные кадров, призывные комиссии из последних сил держатся на поверхности. Пан …-ник, подполковник в отставке, тосковал по другим порядкам. Тосковал по временам войны, по союзникам. Родители Яна были заботливыми, домовитыми, я, о которой двадцать лет преступно никто не заботился, была их дочерью. Субботние обеды продолжались до понедельника. Я глотала, жевала, слушала рассказы о единственном Янике, ребенке капризном и болезненном. Теперь у него новая порция хворей. Золотилась желтуха, краснела краснуха, оспа рубцевалась на лице. «Мама, прекрати», — умолял выздоравливающий.