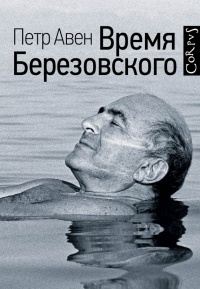Книга Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло - Валерий Подорога
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Ужас этой жизни не может вместить никакое воображение именно потому, что она пребывает вне жизни и смерти»[70].
И в другом месте — уточнение:
«Концентрационные лагеря, делая смерть анонимной (поскольку невозможно выяснить, жив узник или мертв), отняли у смерти ее значение конца прожитой жизни. В известном смысле они лишили индивида его собственной смерти, доказывая, что отныне ему не принадлежит ничего и сам он не принадлежит никому. Его смерть просто ставит печать на том факте, что он никогда в действительности не существовал»[71].
Многие из выживших узников нацистских концентрационных лагерей пытались восстановить собственную жизнь, исходя из того, что было до, стирая после как свидетельство чудовищного провала. Можно взять на выбор несколько стратегий выживания и проверить, какой опыт стоит за каждой из них. Парадокс выжившего в том, что он испытывает чувство освобождения лишь тогда, когда вытесняет травматическое переживание и способен больше не помнить… Или еще более радикально: то, что было, того не было. Раз я выжил, то нет и этого после. Из до/прежде/тогда (долагерной жизни) выстраивалась старая идентичность, на которую и нужно опереться, чтобы уничтожить невыносимое «после». И это не просто вытеснение — это строжайший запрет, налагаемый на то прошлое, которое переживалось как неслыханная для индивида утрата человеческих качеств. Выйти из «после» и закрепиться в «сейчас» — на этом обратном переходе только и может проявить себя вера в достойную жизнь. Для того, кто считает себя победителем, выживание есть итог самой победы, победоносной жизни; в то время как для жертвы выживание — попытка преодолеть безоговорочное поражение. Б. Беттельхайм полагает, что опыт лагеря является отрицательным, в нем нет ничего позитивного, поэтому всякое воспоминание о нем ведет к дезинтеграции личности, новым страданиям, обновлению и активизации прежней травмы. Вот что он пишет: «Как только человек начал отрицать действительность жизненного опыта в лагере, не разрешая своим смутным чувствам вины доходить до сознания, для поддержания первоначального отрицания становится необходимым еще большее отрицание и подавление памяти. Таким образом, каждое отрицание требует дальнейших отрицаний, чтобы поддерживать первоначальное отрицание. И подавление, чтобы оно сохранялось, требует дальнейшего подавления»[72]. Здесь наступает физическое истощение от попыток вытеснить в глубь сознания опыт, который признан с самого начала невозможным. Вот что препятствует продолжать жить. Эффект полной анестезии, то, что можно назвать упразднением Возможного (Бога, Будущего, Единства личности, Смысла). «Проведенный Леви анализ упреков совести среди выживших в лагерях особенно берет за душу: этот анализ, как кажется, предвосхитил его самоубийство (в 1987 г.). Его случай не единичен: Жан Амери, также бывший узник Освенцима, наложил на себя руки в 1978 г. Из-за того ли, что оба, Амери и Леви, были „свидетелями невозможной реальности“, они столкнулись с невозможностью жить? Умерли ли они от стыда выжившего или, по крайней мере, от этой невыразимой неловкости, этого крайнего стыда перед лицом непреодолимой реальности? Амери писал, что он человек горьких воспоминаний, которому нет места в этом мире. У самоубийства никогда не бывает однозначного объяснения. Как бы то ни было, экстремальный опыт лагерей придает добровольной смерти особое значение»[73]. Точное наблюдение. Забвение для палача вполне естественно, но жертва не в силах овладеть таким же искусством выживания, она помнит, а память — тяжкое бремя, ведь именно она приговаривает, разрушает изнутри, убивает. Память — это помнить о том стыде, который ты испытал и который действительно способен уничтожить в тебе всё человеческое, изгнать всякий смысл из жизни. Что это за стыд? То, что здесь имеется в виду, — это всё та же невытесненная травма, то, что оказывает сопротивление забвению. Палач склонен к забвению, но не жертва. Человек, не способный забывать, обречен на гибель.
Совершенно иначе ставится проблема выживания для палача. Выживший палач как человек власти принадлежит миру возвышенного: его возвышает смерть врага-жертвы. Весьма любопытны определения Канетти архаических форм выживания: отношение к предкам и предшествующим поколениям, погибшим в сражениях: «Момент выживания — это момент власти. Ужас от ощущения смерти переходит в удовлетворение от того, что мертв не ты, а другой. Он лежит, а ты стоишь. Будто сразил врага в единоборстве. В деле выживания каждый каждому враг, и любая боль ничто по сравнению с фундаментальным триумфом выживания. Важно, что выживший один попирает одного или многих мертвых. Он видит себя одним, чувствует себя одним; и если говорить о власти, которую он ощущает в это мгновение, то нужно всегда помнить, что она проистекает только и исключительно из его единственности»[74]. Выживший тот, кто оказался на плечах мертвых, и не только избежал смерти, но и обрел дополнительное могущество. Для палача нет времени ни до, ни после ГУЛАГа/Освенцима, он человек приказа: его отношение к себе не строится на какой-либо ответственности за преступные действия, которые он совершал как член организации.
Необходимо опознать само выживание как Dasein выживающего. Жить — это выживать. Ценность жизни будет определяться лишь условием выживания. Конечно, характер выживания будет разниться по глубине, силе и длительности. Вот почему тот, кто выжил, не обязательно способен жить «после», он может быть тем выжившим, который уже мертв, опустошен и парализован, являет собой полное отсутствие воли к жизни. Неужели есть что-то хуже, «сильнее», чем такая смерть? Выживший — тот, кто нашел наиболее адекватный ответ на вызов, который ему был брошен, он не проиграл и вполне способен жить, не выживать[75].