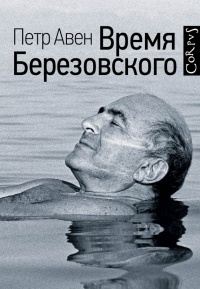Книга Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло - Валерий Подорога
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Что смущает в позиции Агамбена, так это неопределенность и предвзятость избранной темы: «мусульманин» как свидетель обвинения. Предложенная аргументация выходит за допустимые границы объяснения положения жертвы, ее правоспособности, готовности к свидетельству, ее мужества или отчаяния перед насилием и голодом. Не забудем, что те, о которых мы собираемся судить, не находятся с нами в ценностно соизмеримых мирах, они были уже в Аду, когда мы впервые их заметили. Они потрясены болью и страданием, раздавлены и уничтожены, они уже не живут, они только носят изо дня в день свою смерть за спиной, как ранец. Глубочайшее сочувствие и сострадание — вот что меня объединяет с этим образом, и ничто другое. Невольно, хотя и зная это, я делаю страдание полумертвых узников Освенцима и Гулага их человеческим определением. Собственно, я против двусмысленности в толкованиях, стремящихся постоянно «объяснять» Невозможное и Непредставимое. Здесь уместно витгенштейновское: о чем нельзя говорить, о том надо молчать. Критик нарушил обет молчания, вот что обескураживает — desacralisation of silence[62].
Для Адорно единственно возможное отношение к тому, что случилось, в частности, отношение к палачам из SS, может быть только одно — отвращение (Abscheu)[63]. Культура после Освенцима — это распад и падение, запах разложения повсюду, культура как падаль: «…в культуре появляется то, что воплощается и в запахе падали»[64]. Культура приучает нас к забвению. Вытесняя самое шокирующее, стирая его следы, обновляя память, она тем самым утверждает свое право быть такой, какой она была и какой хочет быть всегда, — культурой забвения. Где бы память об Освенциме могла найти свое место? Только в отвращении, точнее, в том образе, к которому с отвращением взывает сознание помнящего. Образ живодера/палача еще держится в памяти ребенка, испытавшего когда-то шок от увиденного взрослого насилия. Время прошло, и складывается иное отношение к феномену «Освенцима». Теперь память поддерживается не осмыслением особой роли палачей, а тем, что представляла собой жертва. Темы палачества не обсуждаются меньше, но с ними как будто все ясно (после стольких биографий А. Гитлера, его психиатрических освидетельствований и патографий)[65]. Собственно, речь как раз и должна идти о том, как Адорно воспринимает феномен Освенцима. Все дело в том, что словечко после означает указание на то, как работает память, а ведь Освенцим это постоянно действующее свидетельство «неудачи культуры». Это и глубинная травма, чье действие усиливается в зависимости от повторного воспроизведения, и эта травмогенность настолько велика по интенсивности, что тот, кто переживает эту боль и это страдание, обретает опыт, не переводимый в знание. Другими словами, есть нечто такое, что, будучи воспринятым, остается непережитым, и это — феномен Освенцима, поскольку его переживание разрушительно, т. е. его невозможно пережить. Вот что будет препятствием для Забвения.
Отвращение, вызываемое памятью о насилии, доходящее до тошноты, до чувства омерзения, причем достигает такой степени, что вызывает сокрушительный шок и рвоту. Бывает это тогда, когда мы невзначай касаемся того, чего ни при каких обстоятельствах не должны были касаться. Тем более, что идет речь об отвратительном запахе насилия, от которого никуда не деться.
Переживание ужаса Освенцима Адорно связывает с вонью, которую издает падаль или «собачье дерьмо». Вечная вонь памяти[66].Пережить — это значит жить после, но именно это и ставится под вопрос. Современная мысль должна отказаться от пере-живания, Erlebnis, не переживать Освенцим, а жить так, как будто всё происходит «сейчас-и-здесь». Таков опыт, о котором нельзя сказать, что теперь мы его «знаем», и больше недопустим, чтобы этот ужас повторился. Шокирующая остановка восприятия: «Такого не должно было произойти!» Наложение по крайней мере двух времен: то, что приходит после Освенцима (если мы, конечно, верим, что оно возможно), и времени до. Замыкание времен: от вони не избавиться, она повсюду. Привычный для Адорно прием — помогать себе скрытой аналогией, в которой он крайне нуждается для развития собственной мысли. Так, вонь Освенцима и все эти сильные запахи смерти и насилия, вызывающие глубокое отвращение, противостоят тонким прустовским «чувствованиям» ускользающего запаха счастливого детства[67]. Этот резкий контраст, разрыв и падение, — эта меланхолия Адорно делает его эстетику негативной (ничего не утверждать, говорить нет всякому образу), худшее уже здесь, оно прямо перед нами.
Полное отчуждение, «отбрасывание» человеческого задается посредством учреждения в лагерях нового статуса смерти. Это не просто смерть, хотя и неприемлемая, но все-таки естественная, вписанная в природный круг человеческого существования. Это другая смерть, абстрактная, смерть искусственная, придуманная палачами-нацистами, делающая и без того невыносимые условия жизни в лагере еще более чудовищными. И это не смерть сама, а страх перед ней, смерть до смерти. Все эти доходяги, полулюди, «живые мертвецы» — основное население нацистских лагерей — на себе демонстрируют этапы этой смерти до смерти: «…со времен Освенцима смертью называется страх; ужаснее бояться, чем умереть; страх ужаснее, чем смерть»[68]. Страх приучает к постоянству смерти, так что смерть — не конец и не начало чего-то, не то, что происходит и заканчивается, а то, что длится, и это дление смерти порождает особых лагерных существ, которые живут в промежутке времени, где нет жизни, но нет и смерти как завершающего физические муки финала («стать мертвым, чтобы выжить»)[69].