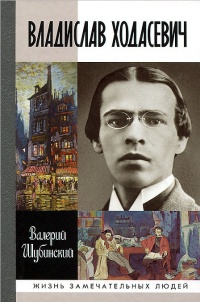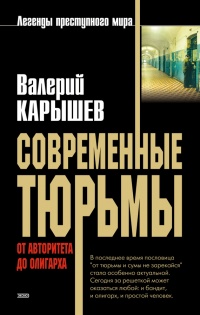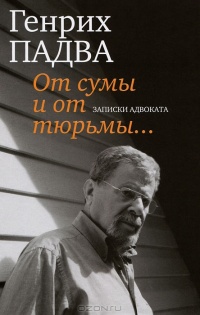Книга Датский король - Владимир Корнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ауэрбах удивился:
— Вы готовы спорить с таким авторитетом, как граф Толстой?
— Ну и что в этом непонятного? Будь он хоть… князь, но ведь истина явно не с ним — он отлучен от Церкви! Разве этого мало для того, чтобы относиться к его сочинениям с осторожностью? А других авторов читаешь: мало того, что до тошноты неприятно вникать в их пороки, да еще страшишься сам заразиться. Хочется порой просто руки вымыть… Среди «творений» всех этих декадентов-символистов нечасто встретишь что-то подлинно достойное, а ведь, простите, ветер здесь дует из Европы. Начитались Гюисманса[32], Стриндберга[33], взяли самое дурное из того же Ницше, Уайльда (им бы учиться, как нельзя воспринимать мир на примере Дориана Грея[34], так ведь нет — копируют его пороки). Да что там говорить… Я больше люблю Лескова, Достоевского, а из поэзии — Тютчева. Из современных? Пожалуй, стихи Бунина. Мне вообще ближе поэзия — она возвышает. И «Псалтирь» ведь тоже поэзия! С прозой куда сложнее…
— Вы рассуждаете о литературе как настоящий специалист, но зачем же так строго? Ее создают люди, подверженные слабостям, моде, например. И в православии ведь нет святых среди мирян. Святой — значит безгрешный, а человек грешит даже мыслью. Возможно ли хоть один день прожить в этом мире и не подумать о ком-то плохо, не позавидовать кому-либо, а то и возроптать — на болезнь, на жизненные тяготы, в конце концов на высшую несправедливость?
Арсений дерзнул перебить ученого мужа:
— Прошу прощения, профессор, но ни о какой высшей несправедливости не может быть и речи! Господь справедлив a priori[35], но суров. Поэтому беды посылаются Им в наущение, по грехам нашим…
Ауэрбах торжествующе поднял вверх указательный палец:
— Вот и вы о грехе — значит, признаете его неизбежность! Может, все же не следует так бичевать человеческую природу? Возьмите еще пример из жизни: кто-то просит материального вспоможения, а у тебя свои дети, и ты не даешь, жалеешь.
— Я знаю многих людей, которые готовы оторвать от своей семьи, но подать ближнему. В России даже говорят: воздастся сторицей, то есть Господь когда-нибудь пошлет еще больше, — Сеня продолжал возражать. — И почему вы решили, что у нас нет святых из мирян? Почитайте житие Улиании Лазаревской: жила в Муроме в XVI веке одна богатая женщина, которая раздала все свое имущество нищим и на храмы. Ее потом канонизировали. А как же наши юродивые? А мать, которая ночей не спит у кроватки больного дитяти и весь день трудится, чтобы прокормить семью? Ей подумать-то о грехе некогда!
— Ну, сегодня, допустим, она не спит, а завтра выздоровеет ребенок, и выдерет его эта «благочестивая» матушка розгами до крови. Впрочем, примерная мать в своей любви ближе к Богу, чем иной монах, который только и знает, что целый день молится… Но кому из нас дано знать, что грех, а что не грех? Кто их сочтет, наши падения?
Немец спохватился (Арсений вдруг заметил, что старик тоже устал):
— Конечно, я отклонился от сути: не судите строго старого шутника. А знания ваши, господин Звонцов, заслуживают самой высокой оценки. Вы очень способный, не побоюсь сказать, выдающийся ученик. — Он расписался в зачетной книжке, широким жестом протянул ее Арсению. — Теперь вам нужна школа иной ступени, и я уже не могу быть вам полезен как наставник. Не смею задерживать!
Он собрался откланяться. Арсений же, спрятав зачетку и порядком потрепанный том Гёте, украдкой перекрестился («Слава Богу за все!»), но вдруг вспомнил, что книга у него в портфеле — «Мефистофелева».
Художник пролепетал:
— Verzeihung![36]Чуть не забыл вернуть вашу книгу. Правда, она в таком виде… безобразном. Вообще у меня нет привычки писать на книгах, но тут не смог удержаться — иногда делал заметки на полях… Мне, право, неудобно! Я виноват…
Мефистофель машинально взял протянутый ему том и, словно не слыша извинений, стал перелистывать, приблизив книгу почти к самому носу, подолгу задерживаясь там, где были пометки чернилами, и бормоча под нос:
— Ad majorem gloriam? Ad meliora tempora… Sic! Bona fide[37].
Так. разговаривая то ли сам с собой, то ли с кем-то воображаемым. Ауэрбах внезапно покинул зал.
«Только бы он не разобрал, что это шпаргалки!» — испугался Арсений. Никогда не умевший лгать, русский самоучка от волнения сказал то, о чем вполне можно было бы и умолчать. Несколько минут ожидания показались пыткой: он не знал, ждать ли, ретироваться ли, тем более что теперь ему уже ничего не требовалось от экзаменатора. Воспитание не позволяло просто сбежать.
Старик вернулся без потрепанного «Фауста», зато теперь в руках у него были две новые книги в черных переплетах, одна из них поблескивала золоченым обрезом и тиснением на корешке. Именно на ее титульном листе профессор что-то артистично начертал своим размашистым, витиеватым почерком.
— Примите в дар: здесь изложена квинтэссенция моего учения!
Раскланявшись на прощание, Ауэрбах направился к выходу, приглашая за собой независимо мыслящего русского «студента». Арсений кивнул в ответ и уже в коридоре принялся с любопытством рассматривать подарок. На одном переплете было вытиснено лаконично-многозначительное: «Goethe. Faust». Арсений осторожно приоткрыл том и прочел дарственную надпись: «Zu meiner frommen Anhänger mit Segen»[38]. Вместо подписи стояло: «vom Autor»[39]. «Ну, кажется, он в самом деле сумасшедший!» Хотя, может быть, близорукий профессор просто перепутал книги, да и подписал не ту? На титульном листе второй книги значилось: «Doctor Auerbach. Homunculus der Vergangenheit und Übermensch der Zukunft»[40]. Сенино сердце радостно екнуло в предвкушении дельного чтения. Курьезный же автор «Фауста» исчез так же стремительно, как возник. Арсению тоже захотелось скорее покинуть университет, вернуться в Веймар и «доложить» другу об успешно сданном за него экзамене. Но тут вспомнилась утерянная пуговка от бесценного звонцовского костюма. «Старик не запер аудиторию! Хорошо, что я не забыл о потере, а то ведь наверняка пришлось бы снова тащиться сюда из Веймара. Сейчас пойду, подберу ее с пола, и можно ехать со спокойным сердцем».