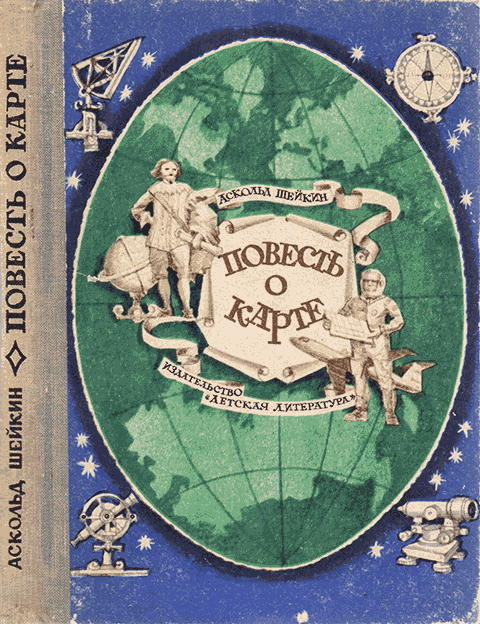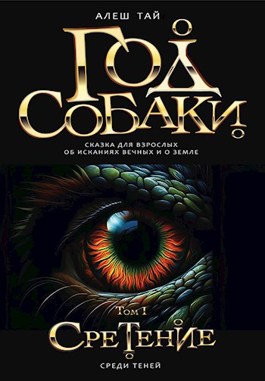Книга Разыскивается невиновный - Эдуард Михайлович Кондратов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Айна боится. Наверняка она не сомкнула глаз. А что если я позову ее?.. В окне Вадима Петровича, соседнем с моим, темно. В комнате тихо, тикает будильник. Начальник спит, вставать ему только через час.
Я убрал свет, неслышно спустился с крыльца и тотчас увидел у торца домика желтоватую полоску. На радиостанции кто-то был.
Теперь не могло быть и речи о том, чтобы вызвать Айну на разговор. Но какого лешего Старый приперся на радиостанцию так рано?
Осторожно, рискуя в темноте наткнуться на какую-нибудь железку или сухую саксаулину, я сделал шагов тридцать в сторону метеоплощадки и по памяти отыскал заржавленный контейнер, который в незапамятные времена бросили проезжие геофизики. Взобрался на него и увидел то, что ожидал: за столом сидел начальник станции. Керосиновая лампа освещала его плоское лицо несколько сбоку, искажая его неестественными тенями. К голове у Вадима Петровича прилипли наушники: приемопередатчик был включен, он слушал эфир.
Меня это не удивило: все радисты на метеостанциях любят так вот приобщаться к большому миру. Поразило меня лицо начальника: на щеках его блестели слезы.
Это было слишком невероятно. Слезы у Старого?.. А может, пот? Такой крупный? А может, он услышал песню... Ну, времен своей молодости или военную... Оттого и расстроился? Или — думает о себе и об Айне?..
«Наверное, свет паршивый, вот мне и мерещится», — подумал я и увидел, как Вадим Петрович взял со стола какую-то бумажку, затем другую и стал соединять их... Фу ты, черт! Он же вкладывал в конверт письмо!
Но какое?
То, что получил сегодня?
Или... написал сам?
В одном уверен: не служебная эта бумажка, нет, не тот человек наш начальник, чтоб по ночам заниматься документацией.
Я чуть было не загремел с контейнера. Посидев еще немножко, я спрыгнул на песок и вернулся к своему крыльцу. Там включил фонарик, и, не скрываясь, направился к метеоплощадке.
Через полчаса, когда я принес начальнику на радиостанцию метеоданные и взглянул на его сонное, брюзгливое лицо, мне стало совершенно ясно, что никаких слез я, конечно же, видеть не мог.
Мы не сказали друг другу ни слова... И кстати — на столе у Вадима Петровича не было ни единой бумажки.
12
САПАР САПАРКУЛИЕВ
Утром я делал хозяйственные дела. Набрал саксаула, наломал, чтобы в печку влез. Воды принес, костер разжег, кувшин на огонь поставил. Все как надо. Завтрак у нас поздно бывает, потому что в девять часов радисты показатели передают. А потом уже завтракают. Но гок-чай мы пьем рано-рано. Как глаза открыл, так и чай. Зеленый чай с утра выпил — весь день жажды не будет, в Каракумах это все знают.
Что еще я делал? Крылечки подмел, дорожку возле дома почистил. Посмотрел в мешок, где наш чурек — лепешки туркменские. Ай, думаю, хватит на сегодня, печь не буду. С тандымом возиться надо — нагревается он долго, а у меня на это утро план был: змей отнести и к Аман-баба сходить. Аман-баба, говорят, давно-давно святой человек был, могила его от нас всего в двух часах ходьбы. Только лучше рано идти, а то жарко. Я Вадиму Петровичу сказал вечером, что на святое место пойду, хорошую жену просить. Сами пусть позавтракают, а я в шесть часов пойду. Или в семь, как успею.
Успел я справить дела к половине седьмого. Почему точно знаю? Потому что всегда в окно начальнику заглядываю и будильник на столе вижу. Не понравилось мне в это утро, как Вадим Петрович спал. Страшное лицо, страдальное, рот открыт и один глаз. Вчера они с Юрой немного кричали друг на друга, спорили. Ай, зачем они об Айнушке спорят? Мы, туркмены, считаем, что про чужую жену даже спрашивать неприлично, как она живет или как здоровье. А они без Володьки говорят о ней, нехорошо! Я ушел от них за юрту и ругался там — так мне стыдно было. Айнушка счастливая, лучше Володьки мужа не найдет. Жаль только, что брата обманула, это нехорошо. Хотя этот калым проклятый я тоже ненавижу, мой брат Сейиткули так и дожил до сорока лет холостым, потому что большой калым заплатить не мог. Потом, правда, собрал деньги. Сейчас он почти старый, а дети маленькие. Разве хорошо?
Повесил я на себя Володькину фляжку с водой, взял в юрте свой мешок со змеями и отправился. Надо мной люди смеются, что я змей ловлю и подальше от людей выпускаю. Они смеются, а я говорю: «Тебе без змеи хорошо, да? Вот и змее без тебя будет хорошо. Живите, пожалуйста, друг друга не трогайте. Каракумы — большой дом, места всем хватает». Они все равно смеются. Правда, шоферы думают, что я для Ашхабадского зоопарка змей ловлю и много денег получаю. «Ай, молодец, хитрый Сапар», — говорят. Я и не спорю, мне так даже удобно. Пускай лучше уважают меня за хитрость и богатство, чем смеются. Правду только на метеостанции знают, и когда видят змей, то меня зовут. Один Володька их давит, где бы ни встретил. Самый лучший человек на станции, а не понимает, что нельзя обижать хозяев, если ты к ним в гости пришел. Каракумы за это могут наказать.
У меня в мешке было только три змея — две кобры и одна эфа, та, которая кольцами ползает. По дороге, когда шел по пескам, я смотрел по сторонам, хотел поймать еще одну, хотя бы стрелку. Змеи утром греются на солнышке, а потом от жары уходят в норы. Но среди барханов я тогда ничего не поймал, пошел дальше. Около Узбоя их много, только там я их не ловлю. Зачем? Там я своих змей выпускаю. Однако в этот день я к самому берегу Узбоя не пошел. Как только начались кусты, я и открыл мешок. Хоть и высохла бывшая Аму-Дарья — одна канава осталась с мокрой солью, а все же есть пища корням. А где растения, там и мыши, песчанки, разные лягушки. Змеям тут не голодно, а воду они не пьют. Вот джейрану вода нужна, и архару тоже нужна. Только я их в пустыне и возле Узбоя не видел ни разу — они в кырах встречаются. Там есть соленые озера,