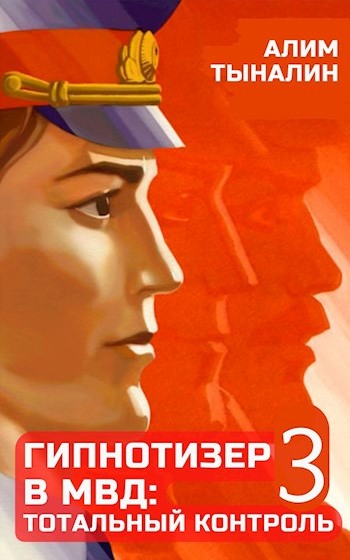Книга Истории неоднозначных преступлений - Андрей Николаевич Толкачев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Смотрю «Тишину» и «Ранний час» В. Темплина и читаю ее дневник.
«Несчастная мама, мне так больно за нее, и я так ненавижу тех, по вине которых она мучается, так хочется иногда помочь. <…> Она похожа на заработавшуюся ломовую лошадь, которая уже по инерции ходит целый день в жесткой упряжке и возит тяжести, хотя сил нет, и по привычке покорно и терпеливо терпит побои. Мама знает свой долг и будет выполнять его до тех пор, пока совершенно не лишится сил, пока не умрет».
…Как той весной 37-го вместе с сестрами распахнули окно, когда увели маму, и кричали ей вслед: «Мама, до свиданья, не бойся». А она оглянулась, и тоже крикнула: «До свидания, прощайте детки». На шестой день уведут самую младшую сестру — семнадцатилетнюю Нину. Через три недели после мамы уведут Евгению, а потом еще через три — Ольгу.
…Как испугались, что не выживет она в том аду, а Любовь Васильевна выживет, правда, вскоре умрет в Магадане, но уже свободной(!). Только в деле девчонок потом появится запись об этом непростительном поступке — прощании с матерью.
Как влюбилась в одноклассника Левку.
«Какая-то магическая сила тянула мои глаза к первой парте у окна, к светлому профилю Левки, и я, быстро перебегая с предмета на предмет, вдруг неожиданно вскидывала на него глаза, совсем не останавливаясь, и так без конца». (Из дневника Нины)
…Как записи о первой любви, а именно последнее предложение, были подчеркнуты следователем красным карандашом, и стали уликами против нее.
«Меня вдруг оставила всякая надежда, что он меня любит… Случилось это на уроке рисования, я, вероятно, показалась смешной мальчишкам, они заржали, потом начали кричать „дура“, и мне даже показалось, что Левка кричит „косая“. Я вспыхнула и, продолжая спокойно рисовать, почувствовала вдруг, как что-то рушится в душе моей и, смешиваясь с оскорблением, исчезает надежда… Жизнь, если взглянешь с холодным вниманием кругом, такая пустая и глупая шутка».
…Как попала в страшную камеру. там сидела Евгения Гинзбург. В «Крутом маршруте», в главе «Бледные гребешки» она напишет:
«Все 39 человек одеваются быстро, боясь опоздать на оправку. В камере стоит приглушенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам свои сновидения.
— Почти все суеверными стали, — говорит Нушик. — Вон там, у окна, старуха. Каждое утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще она профессор… А вон ту видишь? Ребенок, правда? Ей 16 лет. Ниночка Луговская. Отец — эсер, сидел с 35-го, а сейчас всю семью взяли — мать и трех девочек. Эта — младшая, ученица восьмого класса.
…За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички, ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следователями».
…Как встретила в Севвостоклаге на Колыме Виктора, и вместе начали новую жизнь, вместе работали в театре, вместе ушли из него в мастерские, как мастера в «Андрее Рублеве» Тарковского…
Магадан, Эльген, Стерлитамак, Кизел, Владимир…, — где они только не поработали.
…Как вместе писали картины…, жаль, утрачен Дневник…
Все? Нет, еще нет.
В последние минуты жизни Нина вдруг вспомнила луг и красивую белую лошадь на противоположном берегу реки. Это случилось когда папа в конце августа какого-то года тайно приехал в Москву и вывез девочек в деревню. Нина почему-то с горечью смотрела на луг и красивую белую лошадь, что паслась на противоположном берегу реки.
P.S.
В таких историях не обходится без чуда. После смерти Нины Луговской дневник нашёлся.
Три ученические тетради обнаружатся в Гос. архиве. Дневник выжил. Нина добилась всего, ее реабилитировали лишь в 1963-м, после трех отказов, но что дневник выжил она так и не узнала.
Школьный дневник и три девчонки, охраняющие своих папу и маму. Повторение мифа о дочерях Зевса и Фемиды, охраняющих вход в Олимп. Ольга, Евгения и Нина — богини времен года Эвномия, Дике и Эфрена, только периода сталинских репрессий.
И еще поделюсь.
Набираешь в «поисковике» — «Дневник школьницы» — вместо опубликованного дневника Нины Луговской выпадает корейская комедия. На нее спрос куда больше. Наверное, что-то важное о себе мы упустили.
И будет стоять могилка, постамент засыпанный сухой травой и придет художник Анатолий Кувин, поклонится, смахет налетевшие листья с могилы Нины Луговской
Полковнику Родосу никто не пишет
— Но сегодня мне должно было прийти письмо. Обязательно.
— Только смерть приходит обязательно, полковник.
Бутырская тюрьма. 28 февраля 1956 года. В камере — один человек.
Возрастом он тянет на пятьдесят, внешностью — намного старше. Нездоровая бледность, лицо оплыло, мешки перед глазами, походка жалкая. В застенках уже три года или всего три года, но стерпел бы, если не смертная казнь, которая подкрадывается, и набросится на тебя голодной крысой, со дня на день, ты не заметишь.
1956 год. Бывший полковник сидит и пишет ходатайство о помиловании.
Ведь «никогда не бывает слишком поздно», правда Гарсиа Маркес? Правда, рассказ «Полковнику никто не пишет»?
Дослужился до полковника, трудом и потом — отняли звание. Заслужил награды: два ордена Красной Звезды и орден Знак Почета, — отняли награды.
И сын не покажет внукам ордена деда — нечем сыну будет гордиться, лишь сохранил в памяти, как отец куда-то возил, одевая парадку с золотыми погонами. Сохранил бы фамилию. Так, нужно бороться, писать прошение. Он вправе надеяться на пересмотр решения властей о наличии в его действиях «контрреволюционного умысла».
1956 год. Отец троих детей пишет ходатайство о помиловании. Да, пусть впереди старость. Зачем ему старость — понятно, он нужен своим детям и он пишет….
Он попал в глупейшую ситуацию. Три года назад написал ходатайство о восстановлении в органах. Зачем? Напомнил о себе и дал этим гиенам шанс расправиться над собой. Он был заботливым отцом: со старшей дочерью, в парадном мундире, любил ходить в театр, а с сыном — на футбол, — болеть за любимую команду «Динамо». Теперь у него остался последний аргумент, причем по Вергилию: Saeculi vitia, non hominis (Пороки эпохи, а не человека).
Он просит сохранить ему жизнь такими словами: «Ради ни в чём неповинных моих детей, старушки-матери и жены я умоляю Президиум Верховного Совета СССР сохранить мне жизнь для того, чтобы я мог употребить свои силы на частичное хотя бы искупление самоотверженным трудом в любых условиях своей вины перед партией и народом».
1956 год. Офицер, раскаявшийся