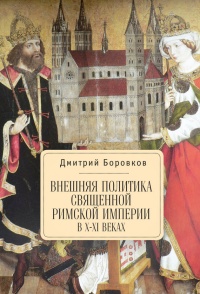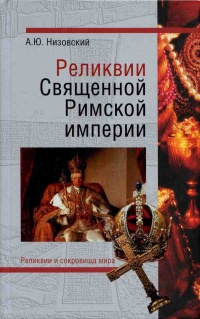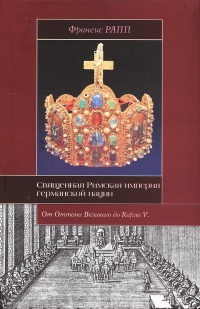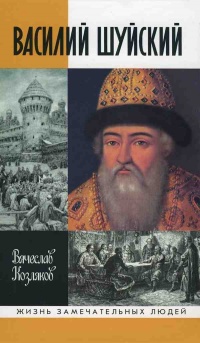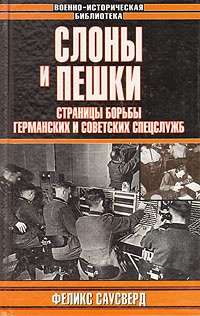Книга Серебряные орлы - Теодор Парницкий
Читать книгу Серебряные орлы - Теодор Парницкий полностью.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Комментарии и отзывы (0) к книге "Серебряные орлы - Теодор Парницкий"