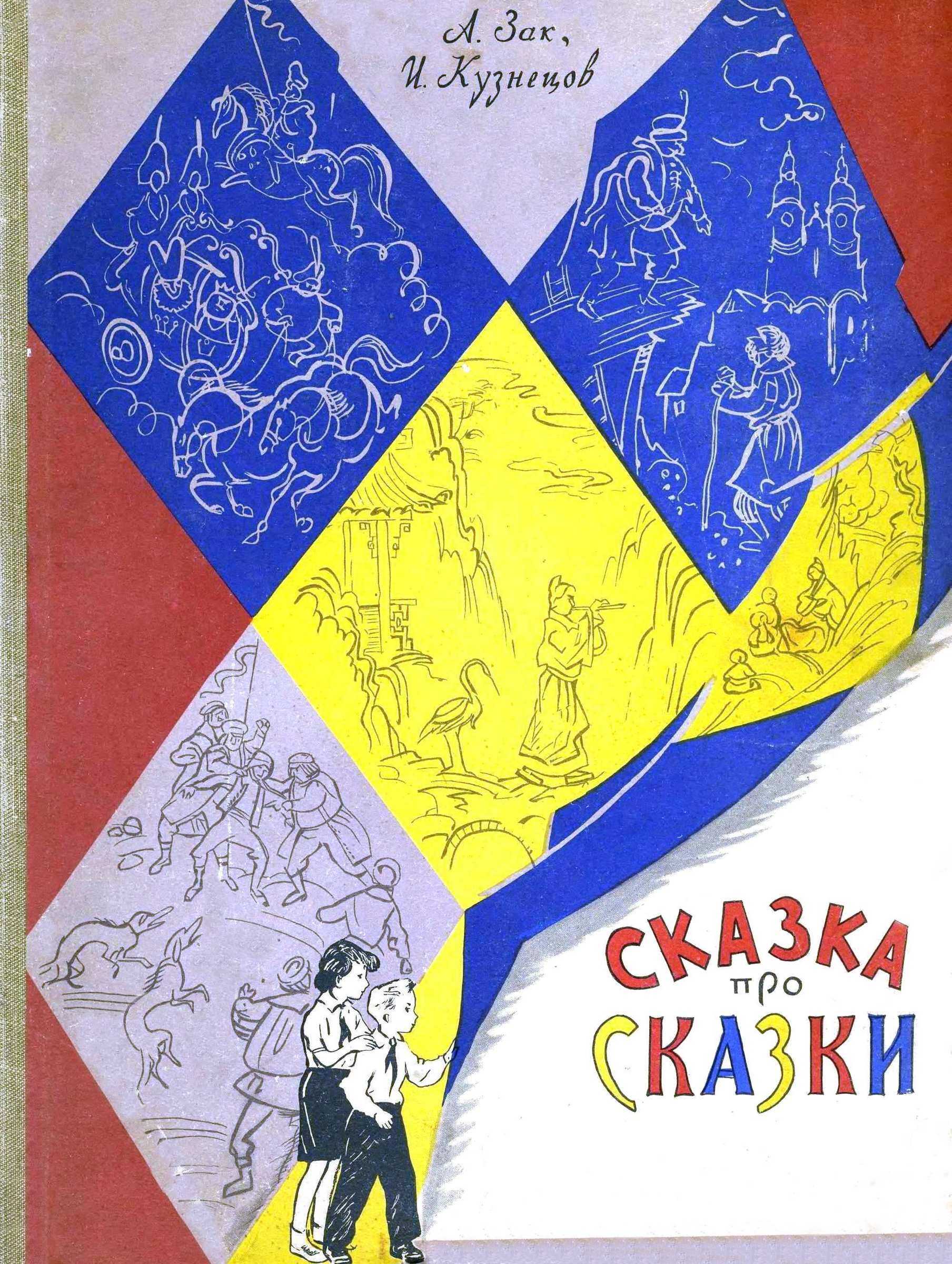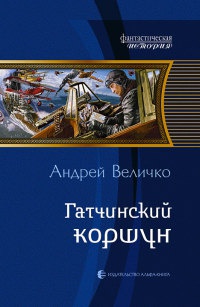Книга Корвет «Бриль» - Владимир Николаевич Дружинин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Петушится, до смешного петушится. И тем заметнее, как он растерян. Вероятно, Игорь не так крепок, как казалось. А на «Воронеже», с Лавадой, с новой командой, распускать себя нельзя. Могут быть сюрпризы…
На макете резко чернеет заголовок — «Контрабандистов под суд!». Последние номера «Волны» рвут из рук. Событие произошло сенсационное. В воротах порта задержали матроса Грибова, в такси, с тюками заграничного добра. Ковры, нейлоновые блузки… Грибов плавал на «Комсомольце Севера», потом перешел на лесовоз «Кама». На «Комсомольце» у него были дружки, он не отрицает этого, называет имена, не верить Грибову нельзя. Он сбивает с толку следствие. Послушать его, на «Комсомольце Севера» не было ни одного честного человека. Весь экипаж — шайка лоботрясов и спекулянтов!
Судно было на хорошем счету. А теперь пригляделись — передовик-то оказался дутый. Дисциплина упала, в чести была водка.
На «Воронеже» об этом не знают. Газеты придут к ним недели через три, в Лондоне. А Грибов между тем усердствует, готов припутать всех, с кем плавал…
Затишье в редакции оборвалось, начался прилив. Влетел с опровержением настойчивый, голосистый моряк.
— Я не принял мер? — грохотал он. — Как бы вы сами экономили горючее в такой обстановке! Бискайский залив что — ванна?! Не мне вам говорить…
Оксана злилась на крикуна, не терпящего критики, и в то же время ей, как всегда, было приятно слушать такое. Как будто и она изведала все повадки Бискайского залива.
Пачка писем легла на стол. Посетитель еще бушевал, а Оксана, чтобы не терять и минуты, вскрывала конверты.
После шумного визита стало восхитительно тихо. Оксана пробегала письма. Стихи на конкурс. Пока примечательного мало, — «море» и «в дозоре», «ветер лобовой» и, разумеется, «рулевой». Отклики на историю с контрабандой. Требуют строгого наказания. Просят расследовать дело до конца.
«Будучи соседкой радиста Папоркова, то есть живя в той же квартире…»
Это как понять? Да, Грибов на допросе упоминал и Папоркова. Но ведь газета не сообщала… Значит, просочилось, подхвачено сарафанным радио.
«Папорков из той же шайки, в чем не может быть сомнения. Внешний облик Папоркова далеко не наш, не говоря уже о других порочных тенденциях этого субъекта, присвоившего себе высокий титул советского моряка. Наличие лишних денег, которые тратятся на прихоти и на предметы, чуждые нам по характеру…»
Оксана перевернула страницу, не анонимка ли? Нет, В. М. Ковязина, педагог двести восемьдесят шестой школы. Аккуратно, крупными буквами, проставлены адреса — служебный и домашний.
«Я прошу дать мне возможность выступить на суде, дабы…» — читает Оксана пропущенное. Злости через край, и ни одного конкретного факта.
— Анна Ермолаевна! — Оксана вышла в соседнюю комнату. — Посмотрите-ка!
Там дребезжит разболтанный «Ремингтон». Юный литсотрудник Славик — репортер, очеркист, фельетонист — диктует. Диктует «из головы», что разрешается ему одному, как признанному вундеркинду в журналистике. Анна Ермолаевна терпеливо фиксирует его импровизацию.
Анна Ермолаевна — вдова челюскинца — не просто машинистка. О, нет! Она — бабушка редакции. Она печатала материалы для первого номера «Волны» тридцать два года назад. Моряков знает чуть ли не наперечет.
— Посиди, Слава, подумай, — ласково говорит она и берет письмо.
— Что, грозная особа?
Папорков Анне Ермолаевне неведом. А письмо неприятное, пахнет квартирной склокой.
— Вот и я считаю, — говорит Оксана. — Я поеду.
Можно было бы послать кого-нибудь другого. Того же Славика, например. Оксане самой не вполне ясно, почему она вдруг решила познакомиться с Ковязиной. Папоркова она видела мельком, на «Воронеже», накануне ухода. Парень непростой, с фасоном.
На улице ветрено, солнечно. Весенний запах моря, отстоявшийся за зиму, густой, терпкий.
В автобусе Оксана перечитывает письмо. Строки ровные, по линейке. «Предметы, чуждые нам по характеру…» Какие же это?
Полчаса спустя она вошла в квартиру, большую, темную, облезлую. Похоже, тут взорвалась бомба, начиненная велосипедами, шкафами, рогатыми вешалками, коробами, и все это разметалось, прорвав дощатые перегородки и кирпичные стены, и осело, где попало.
— Я от газеты, — сказала Оксана женщине, открывшей дверь, плечистой коротышке в синей бостоновом костюме, двубортном, почти мужского покроя. На высокой груди, словно орден на подушке, горделиво мерцал университетский знак.
— Нравится у нас?
Смущенная внезапностью вопроса, Оксана рассмеялась:
— Не дворец.
Она не видела лица женщины, скрытого старомодной шляпкой из черной соломки, но могла бы поручиться: шутка не понравилась.
— Вы Ковязина? — спросила Оксана.
— Совершенно точно. К сожалению, я опаздываю в театр… Сегодня вы поговорите с другими жильцами. Ко мне милости просим в школу.
Лицо по-прежнему пряталось под полями шляпы, только университетский знак смотрел на Оксану пристально и холодно.
— Хорошо, — ответила она знаку.
Должно быть, он — этот знак — недоволен. Шуток он, конечно, не любит. Вероятно, он осуждает мохнатое летнее пальто гостьи, сшитое по последней моде и небрежно расстегнутое. И тугой джемперок, и керамиковую брошку. Таким ли должен быть солидный представитель печати!
За Ковязиной сухо щелкнул замок. Оксана увидела другую женщину. Она вытирала о фартук руки. На тонких запястьях — синие, нежные жилки, а пальцы узловатые, огрубевшие, в трещинах от стирки. И до того темные, что можно подумать — на руках перчатки.
— Вы уж простите, — шепнула она. — Ковязиха и на вас рычит? Не совестно ей…
Она ведет Оксану к себе, в комнату блеклых тонов, небогатую, с запахом чего-то пригоревшего.
— Простите, — повторяет она. — И что она бесится? Ведь никому покоя не дает.
На стене — похвальные грамоты сына, на комоде — портреты мальчика в коляске, мальчика на салазках, мальчика в школьной форме. Все тот же мальчик, Боря Папорков, хорошенький, с капризными губками, единственный сын.
Отца, пропавшего без вести в первый год войны, он не помнит. Клавдия Дорофеевна одна растила его. И вот — выучился, плавает… В голосе матери трогательное удивление. Ей не верится, что это у нее такой сын, — у нее, простой крестьянки родом из глухой деревни на Псковщине, умеющей лишь утюжить брюки и пиджаки, на углу проспекта Маклина, в ателье бытового обслуживания.
Оксане чуточку неловко, сейчас она кажется самой себе чересчур нарядной, слишком благополучной. Как будто такие вот женщины — возраста неопределимого и невыразительной внешности, отвергнувшие себя ради своих детей, — пестовали и ее, Оксану. И ее берегли, отказывая себе во всем.
Оксана еще раз оглядывает комнату. Над кроватью зеленеет ковер, непомерно длинная гончая догоняет на нем ушастого зайчонка. Бархатный заморский ковер.
— Если и покупает что, так не на продажу, господи! Для себя же… Костюм себе справил, мне кофту, пальто демисезонное. Так ведь на то и деньги даются. Эта, как ее… валюта, что ли.
Да, она знает. Грибов приплел и