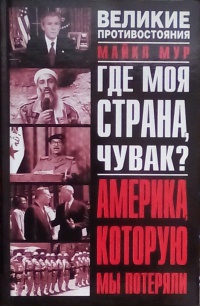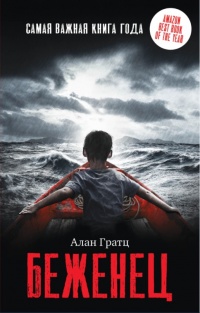Книга Отец и мать - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Константин Олегович молодцевато, получилось даже с подпрыжкой, встал, выпрямился весь вышколенным солдатиком, пригладил ладонью взлохмаченные ветром жиденькие и седенькие свои волосы. Следующим своим действием он критично и зорко поозирался вокруг в поисках какого-то места для своей драгоценной поклажи. Не сразу, но нашёл, – это оказалась этажерка рядом с освещёнными лампадкой образáми. Установил на её верхнюю полку свёрток, торопливо и путанно развязал и размотал не дававшуюся его подрагивающим пальцам бичеву, потянулся рукой к холстине, чтобы её сдёрнуть. Однако задержался в нагрянувшем сомнении, когда нечаянно его глаза пали на иконы.
– Нет, этак не годится, – ответил он решительно на какое-то своё мысленное рассуждение.
Перенёс свёрток подальше от икон, установил его на табуретку у стены.
– Так, пожалуй, будет правильнее и справедливее.
Любил, когда собирался выпить стоявшую перед ним стопку с водкой, потереть руку об руку, – и сейчас, в несомненном предвкушении, тоже потёр.
– Помнишь, я обещал тебе, Катя, написать твой портрет? Все эти месяцы я делал с тебя зарисовки, этюдики, и вот: он – готов. И она – готова. Знаешь, каким-то удивительным и счастливым образом моя идея и твоя жизнь, твои чаяния, твоя чистая душа, твоё прекрасное лицо и твоя изумительная коса, дорогая наша Катенька, слились в моей голове и в моём сердце воедино. Смотри, чтó получилось. Смотри и суди. И ты, хотя и морщишься, Лео, – тоже, тоже!
И Константин Олегович нерасчётливо широким, таким, что чуть было картина не слетела с табуретки, но театрально броским жестом, так, как можно увидеть в кино про художников, наконец, сдёрнул холстину.
Екатерина подумала, что тот же феерический, но беспощадный ураган красок и звёзд бросится в её глаза, ослепит, возмутит, а то и покоробит. Что тот же величественный, гордый сивобородый старец – вселенский Разум, Будда леденяще и остро воззрится на неё, даже взглядом вещая, что ты, человек, ничтожен, ты пылинка, и если я пожелаю – сдую тебя с этой изумительной планеты моей Вселенной в кромешные ады космоса. И когда художник сдёргивал холстину, Екатерина присомкнула веки: чтобы, видимо, не сразу разочароваться и чтобы не тотчас художник понял – его творение не совсем принято или совсем не принято.
Но, однако, когда она приоткрыла глаза, подглянула сквозь ресницы, то увидела совершенно иного рода картину – картину какого-то другого мира, картину какой-то другой жизни, картину какой-то другой идеи и мысли.
Хотя полотно по-прежнему являло собою тот же вселенский Разум, ту же многообразность красок и очертаний мазков, те же вихри звёзд, однако оно оказалось таким, что пришлось действительно несколько зажмуриться, но не по причине ужаса и неприемлемости содержания, а по внезапной и потрясающей причине хлынувшей с полотна всё собою пронизавшего и облагородившего пшенично-горчично-золотистого света. Этот свет лёгкой напыленностью пронизал собою все цвета изображения, и ни одна краска теперь не терзала, не колола глаза. Напротив, ласкала, утешала, подбадривала, подманивала и даже что-то как будто обещала, сулила.
Эта выновленная художником Вселенная оказалась ничем иным, как земным пшеничным полем, которое укатывалось в развёрстые, но тёмные, сумрачные дали-глубины космоса. Звёзды, сонмища их, явили собою крупные зрелые хлебные колосья, возможно, предназначенные для окормления жителей этой Вселенной. А этот величественный седой старец – Разум предстал ныне этаким выглядывающим из вороха колосьев-звёзд хотя и, как ранее, суровым, взыскующим, дозорно смотрящим в дали, но – простым дедом, просто дедом, деревенским дедом, может статься, приставленным в охранение этого плодородного, богатого, ожидающего жнецов поля-кормильца.
Но это – не всё и даже, кажется, не самое важное, не самое ключевое в замысле создателя.
К окоёму поля, за которым проглядывалась тьма обычного космоса, парящей поступью, в полуобороте головы назад шла прекрасная, с длинной толстой косой младая женщина – дева, в золотисто горящих шелках, с младенцем на руках. И младенец, голенький, розовенький, но как-то по-взрослому задумчиво неулыбчивый, тоже полуоборотом головы обращён был назад, куда и дева, очевидно мать его.
– Писал с Сикстинской Мадонны? – шепнул Леонардо Екатерине. – Всё чудесно, всё понятно, но только почему дева идёт куда-то назад, в какую-то дремучую даль, а не вперёд, на нас, на зрителей, как по негласному правилу у всех художников Возрождения?
Однако Екатерина не отозвалась: она была до того потрясена, что пока не могла мыслить ясно и отчётливо словами.
– Папá, я правильно понимаю: дева засевает поля твоей Вселенной? – спросил Леонардо. – И там, где она пройдёт с младенцем, не бывать тьме, а торжествовать сиянию зреющих или уже созревших колосьев в виде созвездий, – так получается?
Действительно, с шелков девы ссыпáлись на поле зёрна-звёзды. И там, где она находилась в своём движении, – колосья только-только на всходе. Там же, где старец-сторож, – колосья уже полновесны, дородно зрелы, успевай собирай.
– Катя, папá, я так и слышу голос девы. Что хотите думайте обо мне! Она говорит: «За нами – всходы, за нами – плодородная нива, – хорошо. Но нам нужно идти дальше, туда, где ещё не засеяны земли для жизни человеческой, туда, где нас ждут, где в нас верят. Оставайтесь с миром, люди добрые». И мне хочется сказать младенцу и деве: «И вам мира и добра». Папá, почему ты молчишь? Я правильно толкую твою картину?
Но художник в какой-то мрачной, рассеянной улыбчивости не отзывался никак, однако посматривал, несмело и смущённо, на Екатерину. Но она тоже молчала и избегала глаз художника.
– Слушай, папá, может, твоя дева – целинница, комсомолка? – не дождавшись ответа, дрожью губ усмехнулся Леонардо. – Право, зачем ей идти к нам, в нашу благополучную и уже возделанную жизнь, когда жажда подвига должна манить её, сознательную комсомолку, к невозделанным просторам нашей грешной жизни. Папá, ты гений! Твоя картина – свежее слово в советском авангарде. Вот в таком, ближнем к нам, возделанном, то есть цивилизованном, мире я хотел бы жить! Я восхищён. Браво мастеру! Ты угрюм? Ты недоволен? Я тебя не обидел? Прости: меня куда-то понесло.
Художник снова не отозвался, не вступил в спор. Но при слове «авангард» его щека дёрнулась, однако тут же отвердела. Было очевидно, что он ждал и решил во что бы то ни стало дождаться слова Екатерины.
– Катя, а ты поняла, что дева с младенцем – это ты? – спросил Леонардо.
– Я? – наконец вымолвила она, разорвав в горле сухотинку волнения.
– Да, ты! Папá, скажи: дева – это же она?
– Я уже говорил: и портрет готов и картина готова. Ну-с, что же ты, Катенька, скажешь?
– Я?
– Ты, ты!
– Я боюсь показаться высокопарной, но-о-о… я не нахожу таких же ёмких и убедительных слов, как ваши краски и образы, Константин Олегович.