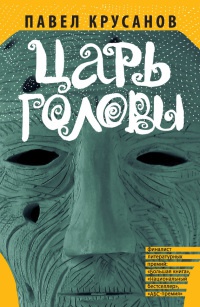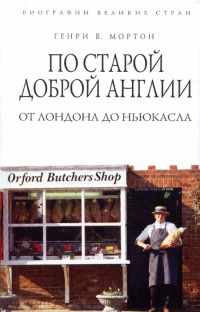Книга О людях и ангелах (сборник) - Павел Крусанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну вот, именно это я и называю соображениями, отвечающими конъюнктуре и соответствующими случаю.
Вскоре, оставшись за столом с Матерью-Ольхой вдвоём, мы уже говорили о деле – «голубь», выпив две ледяные рюмки живой воды и закусив солёным зубчиком чеснока, отправился в кабинет смотреть пиратскую копию какого-то галльского арт-хауса. Суть дела, с которым я шёл к Матери-Ольхе, была следующая: мне показалось важным решить, не откладывая в долгий ящик, вопрос: могут ли деревья стать для нас источником информации о Жёлтом Звере или рассчитывать на это не приходится? То есть меня интересовала глубина контакта, который Мать-Ольха способна наладить со всей этой ботаникой, – осуществляется ли он на уровне снятия незатейливых сиюминутных ощущений типа «прошёл дождь, и мне хорошо», «ветер ломает мои сучья», «я иссыхаю от зноя», или полученное сообщение может, так сказать, содержать сведения отвлечённого характера и на хронологической шкале отражать не только мимолётное сейчас, но и вчера, и позавчера. Вообще-то, задаться этим вопросом должен был Рыбак, как главный радетель о безопасности стаи, но я говорил уже: между ним и Матерью-Ольхой пролегала зона латентного разлада. Итак, я спросил. И ответ получил исчерпывающий. Мать-Ольха при мне в течение шести минут молча пообщалась с колючим борнейским агатисом, после чего поведала всю его историю, начиная от крохотного саженца в индонезийском питомнике и кончая цветочным магазином в переулке Матвеева, где нерадивый служка слишком рьяно поливал землю в его горшке, отчего там завелись дрозофилы, а у самого агатиса начали желтеть иголки.
После столь наглядной демонстрации возможностей работы с дендроисточником вопросов у меня не осталось. Мы вернулись за стол к закуске и живой воде, и разговор вошёл в иное русло.
– Помню в девичестве, – мечтательно воздела очи к люстре Мать-Ольха, – на даче тёплыми августовскими ночами родители часто стелили мне постель на веранде. Вначале я читала под торшером, и в стёкла снаружи с шелестом бились тучные ночные бражники. Потом гасила свет, и бражники стихали. А вокруг был яблоневый сад, и глухой, земляной стук падающих в темноте яблок долго не давал мне уснуть. И в голове моей роились сладкие мечты… Я хочу, чтобы такие ночи могли случаться и впредь. У всех – у тебя, у меня, у моих детей. И чтобы утром на крыльце стоял кувшин с мальвами и в них копошились шмели и пчёлы. Я думаю, это очень непросто. Чтобы сохранить мир таким, надо как-то по-особенному жить. Хорошо жить. Так жить, чтобы не провисала, оставаясь натянутой и звонкой, самая важная струна… единственная, быть может, струна, связующая нас со всем творением. И надо постоянно отдавать себе отчёт за каждый уходящий день – какую службу сослужил, дабы способствовать этому беззаветному делу. То есть не день, а ты… что сделал ты в этот день, что посвятил, что отдал делу служения во имя сохранения живым образа мира, в котором всё ещё дышит счастье.
– Вот, – воодушевлённо подхватил я. – Вот именно. Не спорить, не конкурировать с Творцом, а вместе с Ним со-зидать, всё время прислушиваясь к Его не знающему фальши камертону. Как хорошо ты это описала – одной чёткой картинкой. С ней легко сверяться – это, по существу, и есть нота Его камертона. И знаешь, что мне кажется?
– Да? – Мать-Ольха после общения с зелёным питомцем, казалось, совершенно умиротворилась и уже была преисполнена любви к чудесно задуманному и довольно недурно осуществлённому мирозданию.
– Что мы в этой картинке лишние.
– Шутишь? – Мать-Ольха откинулась на спинку стула и моргнула. – В своей картинке я вполне на месте. Мерзавцам и всякой шушере там, конечно, жизни нет, согласна. Этим скунсам с провонявшими душами туда путь заказан. Да-да, Гусляр, дурная, растленная душа человека смердит – мы не чувствуем этого запаха, а бесы чуют и пируют на зловонных душах, как мясные мухи на падали. Но не окажись в моём саду меня и тех, кто мне сердечно мил, мне до него, до сада этого, не будет никакого дела – гори там всё огнём! Так что не надо этих провокаций. Скажешь тоже – лишние…
– Ну, не то чтобы эта мысль ведёт меня по жизни, но иногда нет-нет да и кольнёт. Вот я в «Вечном зове» про дуб снимал и терем-теремок – подумать если, вся прелесть тех историй в том, что человека там нет и в помине. Или почти нет. Жизнь есть, а человека нет. И зритель смотрит на эту гармоничную, полноценную, согласную со всей Вселенной жизнь, где нет его, и испытывает удивление и радость. Не странно ли? – Мы выпили по рюмке и закусили острой корейской капустой. – Путано скажу, но так уж всё в моих извилинах смешалось… Мне не даёт покоя Жёлтый Зверь. Мы говорим о нём, почти ничего толком о нём не зная, и образ его полон запредельного ужаса. Но ужас этот где-то там… не с нами. Так чувствует Брахман, снимая трепетание дальних слоёв, и так чувствуем мы, доверяя Брахману. И этот ужас не парализует нашу волю. И не в том дело, что источник трепета далёк – за чужой щекой, как говорится, зуб не болит, – нет, тут иное… Просто подспудно мы как бы соглашаемся: может, так тому и следует быть, может, срок наш истёк? Но это глубоко, потаённо и, возможно, только у меня… Князь и Рыбак, ещё и краем глаза не видя Зверя, уже определились – жаждут его крови и готовы отважно заступить ему путь. Полагаю, серебряные пули льют. Их помыслы прямы, как луч света в тёмном царстве: либо в стремя ногой, либо в пень головой. Я думаю об этом и, с одной стороны, мне немного страшно и смешно, а с другой – я испытываю чувство гордости за свою стаю. За то, что сердца моих братьев отважны, а устремления чисты. Но, прислушиваясь к камертону Бога, пытаясь распознать эту не знающую фальши ноту, я, как мне кажется, слышу иные звоны, и внутри меня рождается мелодия другого свойства.
– И что ты слышишь? – На столе рядом с Матерью-Ольхой стояла принесённая с подоконника бегония, которая развернула к хозяйке все свои листья, будто ловила животворящее сияние светила.
– Не смертью убить, а жизнью оживить. Вот что я слышу.
– Это, друг мой, хорошая мелодия, – одобрила Мать-Ольха. – Но если в той, как ты сказал, картинке… Хотя для меня это вовсе не картинка, для меня это пыльца рая, его незабываемый аромат, по лёгкому дуновению которого я в памяти вновь обретаю эдем – свою первозданную родину. Так вот, если в той картинке, где ночь, веранда, бражники и сад, появится Жёлтый Зверь, останется ли там место для меня, прислушивающейся к стуку падающих яблок?
– Вот! Это и есть проклятый вопрос. Вопрос, к которому мы не готовы. А раз мы к нему не готовы, то жмуримся, затыкаем уши и головой трясём, не желая даже предположить, что он, вообще-то, уже поставлен. Но он поставлен, он уже гремит с небес, как ангельская труба: достойны ли мы оставаться в мире, ещё хранящем пыльцу рая? Ведь наше истинное наказание в том, что плод с древа познания прожёг жгучим соком внутри человека брешь – щель, в которую рушится всё безвозвратно. Брешь эта ненасытна и требует: ещё, ещё, ещё… До тех пор, пока мир не скажет человеку: больше ничего нет, ты выжал из меня последнее, я мёртвый. И главное испытание состоит в том – сможет ли человек заткнуть в себе эту щель, сможет ли сам исцелиться. Но куда там – брешь только ширится… Ты вспоминаешь первородину – эдем, а между тем мы из него давно извергнуты. Мы брошены в юдоль скорбей и ею, понятно, не дорожим, как все изгнанники и скитальцы не дорожат чужой землёй, по которой проходят, как злая саранча. Земля ведь эта не их, она для них кара, что им с того, что за спиной остаётся пустыня? Да, может быть, мы не из числа ублюдочных скитальцев, мы укротили брешь в себе, и мы хотим, чтобы сад цвёл за нами, как цвёл до нас, но есть инерция изгнанничества, его проклятие, и в спину нам по-прежнему дышит жар пустыни… Пустыни, сотворённой, может быть, не нами, но почти такими же, как мы. Ведь переустройство природы по своему усмотрению всегда считалось естественным правом человека и прежде никогда не ставилось под сомнение. Разве что теперь… Отсюда и вопрос. Тот самый, проклятый. И я вижу, что стая не сомневается в ответе. Меня же гнетёт сомнение. И оттого мне немного стыдно. Но как мне быть?