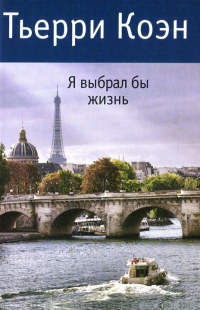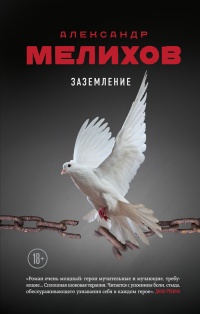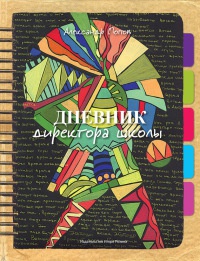Книга Да будем мы прощены - Э. М. Хомс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я не могу удержаться от звука – чего-то среднего между возгласом и хмыканьем.
– Не над чем тут смеяться. Позволь мне высказаться совершенно ясно! – говорит он, и что-то знакомое слышится в его формулировках. – Это не кто-то конкретный, а группа этих «кого-то». Ни у кого руки чистыми не остались. Пешки, все мы пешки. Нет человека, которого нельзя было бы купить, и нет человека, которого нельзя было бы свалить. Это как ярмарка уродов. – Он на миг замолкает. – Дядя Бебе купил твоей маленькой Джулии дом в подарок на свадьбу. Как ты думаешь, она регистрировалась для этого у «Тиффани»? Я за такими вещами слежу, я фанат истории. В правительстве полно таких, как я, парней, которые думают, будто что-то знают, они умные, да только недостаточно умные, сукины сыны. Уотергейт – такой был внутренний инцидент, «эксцентрическая комедия ошибок», как назвал его Никсон, который раздули непропорционально – если посмотреть на все остальное. Как говорил сам Никсон: «Отковырнешь корку – а там чертова уйма всякого, и мы просто чувствуем, что дальше лезть просто не надо ни за что. Тут же и кубинцы эти, и Хант, и куча надувательства, к которому мы сами никакого отношения не имеем». – Незнакомец мой замолкает на секунду, потом начинает снова, и на этот раз передо мной совершенно необъяснимая имитация Ричарда Никсона: – Видишь ли, проблема в том, что это начисто, полностью вскрыло историю залива Свиней, и у президента такое чувство… в общих чертах, такое: не надо слишком сильно врать и говорить, будто совсем никак не причастен; скажи просто, что это была комедия ошибок, не вдавайся в детали, скажи: президент считает, что вся история залива Свиней вскроется снова.
Он останавливает, прокашливается.
– Так как тебе рассказы?
– Нравятся, – говорю я, забывая на миг, что никто об этих рассказах не знает.
– И тот, который с руганью?
Я киваю.
– Это про меня, – подмигивает он. Лифт открывается, мужчина выходит. – Делай как следует свое домашнее задание, и удачи тебе.
Я доезжаю до самого верха, спускаюсь снова в вестибюль и прошу охранника у входа показать мне запись видеонаблюдения из лифта. Этот человек стоит там, где камера не в фокусе, будто знает, куда именно встать. Виден только край его бейсбольной кепочки – даже нельзя сказать, что он обращается ко мне, только у меня лицо все более и более взволнованное, и я оглядываюсь, будто проверяю, слышит ли кто-нибудь то, что слышу я, и что это для них для всех значит.
Это какая-то проверка? Не хочу никого нервировать, но, с другой стороны, эту проверку мог затеять лишь тот, кто в курсе, и разумно будет о ней сообщить. Я спрашиваю Ванду, не может ли она зайти ко мне в кабинет. Она приходит и останавливается в дверях. Я ей рассказываю про этого человека, про его бейсболку и так далее.
– Он стоял за вами, – говорит она. – Он будто точно знал, кто вы, и говорил то, чего вы раньше не слышали.
– Да, – отвечаю я, взволнованный, что вот сейчас мы что-то определим.
– На записях видеонаблюдения ничего?
– Размытое пятно, – говорю я.
Ванда кивает.
– Он здесь уже много лет – то появляется, то исчезает, – говорит она, не очень впечатлившись всей историей.
– Да кто же он? Какой-то полоумный навязчивый гость?
– Вроде того, – отвечает она. – Были и другие, но их осталось маловато – поколение уходит.
Я все еще озабочен.
– Людей в мире полно, – говорит Ванда.
Жду продолжения, но она ничего больше не добавляет.
Сколько других? Сколько еще всякого, чего я не знаю? У меня такое чувство, будто стоит начать копать, и поток информации окажется не только бесконечным, но передаваемым под столом от одной администрации к другой, будто где-то есть куда более всеобъемлющий сценарий, доступ к которому имеют только президент и его люди. И понятно, что стоит тебе взглянуть на этот сценарий, не только ты навеки станешь другим, но выяснится: выверты и повороты партийных политических течений так переплетают шнур информации и деяний, что истинная перемена становится невозможной.
Кто написал этот сценарий? И когда? Есть ли кто-то ответственный за него? Все это как огромная узловатая сеть, в которой человек может разглядеть разве что одно сплетение.
– Все нормально? – спрашивает Чинь Лан, когда я возвращаюсь к столу. – Вы обесцвечены.
– Простите?
– Стерты, – говорит она. – Очень белый, как бумага.
Я киваю. Человек в лифте насыпал много бисера насчет того, чего я не хотел слышать. Тот человек, о котором он говорил, – это не мой Никсон, не тот Никсон, которым я хотел его видеть. Он не был моложавым РМН, кандидатом в вице-президенты, обвиненным в расходовании средств избирательного фонда на личные нужды, выходящим на национальный экран и умевшим сделать так, что люди верили в его скромные средства.
Мы с Пэт счастливы сознанием, что каждый полученный нами цент честно нами заработан и на самом деле наш. Я должен об этом здесь сказать: да, у Пэт нет норкового манто. Но у нее есть манто из приличной республиканской ткани. И я всегда ей говорю, что она в любой одежде красива.
Никсон этого человека был более темным, более зловещим, чем я позволял себе воображать. Расстроенный собственной наивностью, я задумываюсь: могу я себе позволить, зная то, что теперь мне известно, все еще любить Никсона так глубоко, как я его люблю? Могу я смириться с тем, что он был так порочен, так непонятен, с такими огромными расколами и противоречиями в собственной личности, в верованиях, в морали? Есть ли такой политик, который не продал бы десять раз душу еще до того, как стать президентом? Загадочный человек в лифте сказал мне то, чего я не хотел слышать, и я на каком-то уровне чувствовал, что это может оказаться правдой. Абстрактно это могло ощущаться как поворот, уводящий от цели, но конкретно я чувствовал, что РМН становится более близким мне, куда более человечным. Он явно не был ни первым, ни последним, кто нечетко видит границу между исполнительной властью и воображаемой сверхвластью – просто он оказался той редкой птицей, что документирует себя подробнее других.
Я прошу Чинь Лан достать рассказ «Ах, чтоб тебя!», чтобы еще раз посмотреть.
Цитата оттуда:
«Если бы люди имели понятие о том, что происходит, они были бы потрясены, более чем потрясены – они бы захотели, чтобы случилось что-нибудь – потому что никто ну ни капли не хочет, чтобы правда вышла наружу, она была бы губительна для всех нас».
– Чтоб тебя, это погубило бы страну!
«Все, что вы знаете или думаете, что знаете, или что кто-нибудь, кого вы знаете, думает, что знает, – так вот, сделайте так, чтобы все это забыли. Есть способ так сделать, и нужно так сделать, чтобы все затихло на время – на то время, которое будет нужно».
– Зашибись, кем он себя считает? Чарлтоном Хестоном в «Десяти заповедях»? Ах, чтоб тебя!..