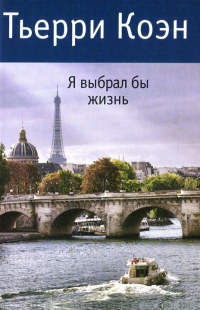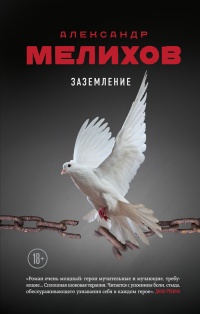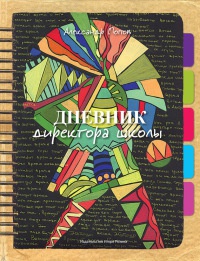Книга Да будем мы прощены - Э. М. Хомс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Правда?
– Правда, ничего такого не могу придумать.
– Это самонаказание такое – не хотеть ничего в обществе, которое только и делает, что чего-то хочет? – спрашивает Таттл.
– Вы так думаете?
– У вас совсем нет желаний? – интересуется он.
– Весьма ограниченные.
– Депрессия?
Я пожимаю плечами:
– Не думаю.
– Что же тогда?
– Удовлетворенность? Отсутствие потребностей?
– А такое бывает? – спрашивает доктор Таттл.
– Это вы мне скажите. Удовлетворенность – это смерть? Надо ли что-то хотеть, чтобы быть живым? Может ли человек стремиться к нематериальному?
– Мудрее было бы, мне кажется, стремиться к объектам более реальным и менее переменчивым, чем ощущение состояния, на которое нельзя рассчитывать наверняка, – возражает Таттл. – Сейчас вы себя хорошо чувствуете, но что-то случится, скажем, и ощущение будет уже не такое хорошее. В вашей модели нет запасного рубежа. Вы не сможете сказать: «Ладно, чувствую я себя полным дерьмом, зато у меня хотя бы есть отличная машина и вот такой телевизор».
– А почему не сказать: «Сейчас мне плохо, но раньше бывало хорошо, и есть шансы, что снова будет»?
– Ну, это от большинства людей потребовало бы очень, очень многого, – говорит он, откидываясь в кресле и ритмично постукивая пальцами друг о друга.
Смотрит на часы – одна из первых цифровых моделей, где крошечные пластинки с цифрами падают вперед каждую минуту.
– На сегодня у нас время заканчивается, – говорит он. – Будем назначать следующий сеанс?
– Я надеюсь, вы сможете заполнить для меня эту форму, – говорю я, кивая на мятно-зеленую бумагу, которую отдал ему. – Это заключение психиатра для департамента социальной службы в ответ на запрос, гожусь ли я в родители.
– Оставьте ее у меня, – говорит он. – К концу нашего следующего сеанса я ее смогу заполнить.
– То есть за заполнение формы я должен заплатить семьсот пятьдесят долларов?
– Это для вас проблема? – спрашивает Таттл.
– Нет, я просто хочу быть уверен, что правильно вас понял.
Таттл кивает:
– В это же время на будущей неделе?
Где-то в течение дня, когда я ничем не занят с детьми, не навещаю мать, не работаю над рассказами Никсона в офисе на Манхэттене и не сижу у Джорджа за столом, отделывая свою книгу, я вижусь с Амандой.
Мы встречаемся на парковках в перерывах между делами. Аманда мне рассказывает, что нового в продуктовом магазине – расширили пролет «этнических» продуктов, больше стало полуфабрикатов, которые только разогревать, одна кассирша обвешивает покупателей. Аманда для меня – ребус. Я говорю, что хотел бы узнать ее лучше.
Она в ответ молчит.
Я начинаю ей рассказывать о грядущей свадьбе моей матери – она меня обрывает:
– Как личность ты меня не интересуешь.
Звучит оскорбительно, но я не оскорбляюсь. Мне кажется, она говорит неправду.
Вечером, перекрашивая туалет наверху, я разговариваю с Нейтом по громкой связи.
– Надумал что-нибудь насчет бар-мицвы?
– Да, – отвечает он. – Давай отменим.
– Отменим бар-мицву? – уточняю я.
– Ага. Не могу я войти в эту синагогу.
– А если провести ее в другом месте?
Я обмакиваю кисть в полуглянцевую краску и провожу ею по стене.
– Где, например?
– Дома? – предлагаю я. – Я тут навожу марафет как раз.
– Дома ее и убили, – отвечает он без интонаций.
– В загородном клубе? В отеле?
Я снова обмакиваю кисть.
– Более чем неловко получается, – возражает Нейт. – К тому же наш ребе – пустое место.
– Да, надо придумать что-нибудь особенное. Может, поехать куда-нибудь?
– Например, в Диснейленд? – говорит Нейт, и я вспоминаю, что разговариваю с мальчиком двенадцати лет.
– Я думал про что-то более существенное. В корне иное.
– Ну, не знаю, – говорит он. – Есть одно место, куда бы я хотел съездить… обратно в Нейтвиль. Но не знаю, попаду ли туда когда-нибудь.
– Тебе двенадцать лет, и ты беспокоишься, что никогда туда не вернешься?
– А ты не дразнись.
– Так что – хотел бы ты в Южную Африку?
– Наверное.
– Только в Нейтвиль, или еще куда-нибудь, на сафари, скажем?
– Сафари – это было бы здорово. Эшли берем?
– Конечно.
– А Рикардо?
– Если хочешь.
– Класс, – говорит Нейт, явно искренне довольный.
– Хорошо, – отвечаю я и отступаю, глядя на уже сделанное. – Посмотрю, что смогу найти.
Кто-то звонит мне, слышны гудки. Я прощаюсь с Нейтом и отвечаю на вызов.
– Твоя мать звонила моей, – заявляет Джейсон.
– А где «здравствуй»? – спрашиваю я, спускаясь со стремянки.
– Все было очень мило, пока она не пригласила мою мать на свадьбу и не расстроилась, услышав ответ: «Я на твоей свадьбе уже была, ты забыла, что ли?» И твоя мать говорит: «Помню, конечно, но я про сейчас, я опять замуж выхожу». В общем, если коротко, моя мать теперь думает, что твоя из ума выжила.
Кисть выпадает у меня из руки, отскакивает от стенки, от умывальника и плюхается в унитаз.
– На самом деле она в отличном состоянии; она познакомилась там с одним человеком, – объясняю я Джейсону, выуживая кисть из унитаза и отряхивая ее.
– И ты ей позволишь выйти замуж?
– Не уверен, что этот вопрос полностью в моей компетенции. – Я останавливаюсь: до меня доходит, что Лилиан может знать жениха. – Послушай, а ты спросишь у своей мамы, знает ли она Боба Голдмана? Они же все из одной школы, так что имя может оказаться знакомым.
– Ты про Бобби Голдмана, маленького братика Йоты Голдман?
– Возможно.
– Так это тот, который был в детстве так несносен. Он в синагоге спустил в унитаз придворный коврик.
– Я думаю, он был тогда спортсменом, – отвечаю я, как будто спустить коврик в унитаз почему-то можно считать спортивным поступком.
– Голдман играл в профессиональной лиге пару сезонов, а потом был ведущим на радио под именем Боб Голд, чтобы никто не догадался, что он еврей.
– Откуда ты все это знаешь?
– Потому что когда наши родители сидели и разговаривали, я внимательно слушал. А вы с твоим братцем были слишком заняты попытками убить друг друга.