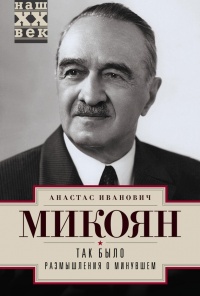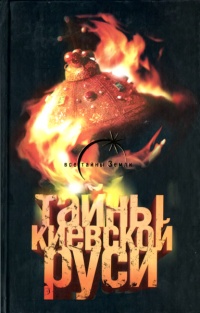Книга Десять десятилетий - Борис Ефимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я зарисовываю в свой блокнот мрачную физиономию Розенберга, пытаюсь представить себе при этом его внутреннее состояние и не могу не вспомнить строки Гоголя из повести «Страшная месть»: «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна… То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать…»
«Жгло и пекло» и всех остальных соседей Розенберга по скамье подсудимых, всех этих вчерашних рейхсминистров, рейхсфюреров, генерал-фельдмаршалов, гауляйтеров… Жгло и пекло за неудавшийся «блицкриг», за провал плана «Барбаросса», за поражение под Москвой, за разгром под Сталинградом, за проигранную войну. Возможно, что жгло и пекло за бессмысленные злодеяния в Майданеке, Треблинке, Бухенвальде, десятках других лагерей смерти, к которым большинство из них не имело прямого отношения, но за которые приходилось держать ответ, поскольку главных палачей — Гитлера и Гиммлера здесь не было.
…По вечерам, когда мы были свободны от процесса, собирались у кого-нибудь в номере, обсуждали эпизоды минувшего дня, трепались, шутили… Кто-то высказал предположение, что американцы установили в наших номерах подслушивающие устройства — «жучки». Предполагалось, что они находятся в настольных лампах. И помню, Всеволод Вишневский, подвыпив и наклонившись вплотную к лампе, начинал кричать:
— Плевали мы на вашу атомную бомбу!
А Всеволод Иванов туда же в лампу скандировал одно и то же короткое нецензурное слово. Забыл сказать, что мы с Кукрыниксами присвоили нашей делегации своего рода «табель о рангах». Наивысшим рангом были «ферапонты» — представитель ЦК Кузмин и Шейнин, за ними шли «курофеи» — писатели Леонов, Вишневский, Иванов, после них — «халдеи», по фамилии одного из фотокорреспондентов, а себя мы именовали — «иные-прочие». Между прочим, маститые «курофеи» не очень между собой ладили. Я случайно стал свидетелем крупного разговора между ними — один «курофеи» кричал другому:.
— Ты думаешь, я забыл, что ты обо мне писал в «Литгазете»?
А тот кричал в ответ:
— А ты думаешь, что я не знаю, как ты говорил обо мне на секции прозы?
Я поспешил уйти.
Пребывание в «Гранд-отеле» было не очень уютно. Топили неважно, и в номере стоял собачий холод, тем более что здание было расколото пополам при одной из бомбежек Нюрнберга. Была проблема с питьевой водой. Поскольку река Пегниц и городские водохранилища еще не были освобождены от трупов, то в коридорах гостиницы установили деревянные козлы, на которых висели брезентовые меха с водой, годной для питья. Правда, воду никто не пьет, так как в ресторане и в баре всегда имеется ананасовый, апельсиновый или грейпфрутовый сок, а также знаменитая кока-кола, описанная еще Ильфом и Петровым. Это — хорошо. Но зато американская кухня здесь — это что-то чудовищное по невкусности и неаппетитности. Это — пресные каши, лежалые яйца, консервированное мясо с вареньем, котлеты с кремом, соленые огурцы с сахаром, все сладкое, все приторное. Особенно донимает то, что к столу вместо хлеба подается сладкий кекс с изюмом, с которым надо кушать и суп и мясо. Когда Шейнину его жена прислала из Москвы с оказией несколько маринованных селедок и бутылку настоенной на чесноке водки, то это распределяли на всю делегацию, как ценнейшие витамины.
Как-то мы с Шейниным где-то сильно задержались и, придя в ресторан гостиницы к концу обеденного времени, с большим трудом добились двух порций консервированной и, конечно, сладкой индейки. В этот момент к нам подошел вахтер и сказал, что некий только что приехавший господин требует к себе кого-нибудь из советской делегации.
— Боря! — сказал Шейнин. — Умоляю вас. Я дико проголодался. Пожалуйста, спуститесь вниз и узнайте, в чем дело.
В вестибюле я застал человека в берете и желтом дубленом полушубке, находившегося в состоянии крайнего раздражения. Это был Илья Эренбург. В этот момент в вестибюль спустился и Шейнин.
— Что у вас тут происходит? — повышенным тоном заговорил Эренбург. — Я приехал из Праги на «виллисе», который мне дал генерал Свобода, устал, проголодался, а меня, Эренбурга, не пускают в гостиницу, требуют какой-то пропуск. Что тут происходит?
Растерянно на меня посмотрев, Шейнин произнес уже ставшее для нас привычным:
— А Гесс филонит под психа.
— Что? — переспросил Эренбург. — При чем тут Гесс? Что за чушь?
— Нет, нет, Илья Григорьевич, — спохватился Шейнин, — это так… не обращайте внимания.
Я с пеной у рта принялся объяснять администратору, что речь идет об известнейшем советском писателе и антифашистском деятеле, невнимание к которому будет иметь самые серьезные последствия. Администратор, поколебавшись, дал разрешение. Эренбург устроен. Кроме того (считаю это фактом своей биографии), я уступил Илье Григорьевичу мою уже полуостывшую индейку. Тут меня опять вызвали в вестибюль. Оказывается, водитель «виллиса», на котором приехал Эренбург, спрашивает, что ему делать дальше. Должен ли он остаться в Нюрнберге или может вернуться в Прагу? Я поднимаюсь обратно в ресторан. Эренбург уже съел индейку и пьет кофе.
— Илья Григорьевич, — спрашиваю я, — шофер интересуется, что ему делать дальше.
— Оставьте меня в покое, — раздраженно отвечает Эренбург. — Делайте что хотите.
Я спускаюсь обратно в вестибюль и отпускаю шофера в Прагу. Этим, однако, мои мытарства не закончились. На другой день Илья Григорьевич «доверил» мне хлопоты по получению для него пропуска на процесс. И начались хождения по американским бюрократическим орбитам в поисках некоего полковника Мэдэри, ведавшего пропусками. Все остальные офицеры, сидящие в кабинетах американских канцелярий, невозмутимо объясняли нам, что выделенный для советской стороны лимит пропусков на процесс уже исчерпан и они ничем не могут быть полезны. Эренбург постепенно доходит до белого каления.
— Скажите ему, — нервно говорит он, — что я приехал сюда только на два дня и если мне немедленно не дадут пропуск, я сейчас же уеду. Пусть станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс гитлеровских разбойников.
Я старательно перевожу эту тираду очередному американскому майору, на которого она не производит ни малейшего впечатления. Он невозмутимо повторяет, что лимит пропусков на советскую делегацию исчерпан и он ничем не может помочь.
«А Гесс филонит под психа», — мелькает у меня в голове.
Кончается это тем, что Эренбург берет мой пропуск и преспокойно проходит в зал суда.
…В Нюрнберг приехал и Дэвид Лоу. Седой, но свежий и моложавый, в военной форме с нашивками военного корреспондента, маститый английский сатирик очень оживленно приветствовал своих советских коллег. В баре нюрнбергского «Гранд-отеля», где еще не так давно рассиживались всевозможные гауляйтеры и оберштурмфюреры, карикатуристы-союзники весело уселись за одним столиком с бокалами в руках. Завязалась непринужденная дружеская беседа. Заговорили и о дальнейших творческих планах.
— Фашистов я буду отныне изображать так, чтобы люди, глядя на рисунок, зевали, — заметил Лоу.