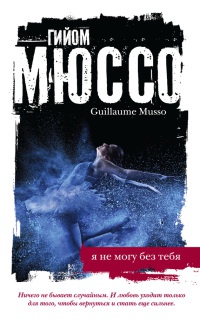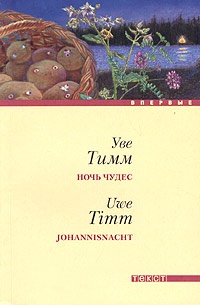Книга Любовь - Карл Уве Кнаусгорд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Нет.
— Именно что нет, и неслучайно. Ты ловчить не способен. Просто не мо-жешь. Ты архипротестант. И, как я уже говорил ранее, ты бухгалтер удачи. Добившись успеха, за который многие бы душу прозакладывали, ты просто отмечаешь его галочкой в гроссбухе. Ты ничему не радуешься. Когда ты в ладу сам с собой, что бывает почти всегда, ты гораздо лучше себя контролируешь, чем я, например. А ты знаешь, как я простраиваю свои системы. У тебя есть свои слепые зоны, где ты теряешь контроль; но если ты туда не суешься — а с тобой этого в последнее время не случалось, — то ты в нравственном отношении абсолютно беспощаден. Тебе достается искушений гораздо больше, чем мне и другим незвездам. Будь ты мной, ты бы вел двойную жизнь. Но ты не можешь. Ты приговорен жить одной. Ха-ха-ха! Ты не Пер Гюнт, и в этом твоя суть, думается мне. Твой идеал — невинность, невиновность. А что такое невинность? Скажу от себя, с другого полюса. Бодлер писал об этом, о Виргинии, помнишь, — образ чистой невинности; она видит карикатуру, слышит грубый смех и понимает, что речь о надругательстве, но не знает каком. Не знает! И она складывает крылья. Тут мы снова возвращаемся к картине Караваджо, к «Шулерам», к простаку, которого облапошили. Это ты. И это тоже невинность. На счету этой невинности, которая также касается и прошлого, и та тринадцатилетка из твоего «Вне мира», и твоя безумная ностальгия по семидесятым. В Линде тоже это есть. Как ее описывали? Среднее между мадам Бовари и Каспаром Хаузером?
— Да.
— Каспар Хаузер, чистая страница. Я никогда не встречался с твоей первой женой, Тоньей, но, судя по фотографиям, хотя она не похожа на Линду, в ней была та же невинность — у нее вид такой. Я не утверждаю, что она такая и есть, но впечатление создается. Вот и для тебя характерна та же невинность. Чистоту и невинность я специально в людях не выискиваю. Но в тебе они заметны. Ты в высшей степени моральный и невинный человек. Что значит невинный? То есть не тронутый миром, не испорченный им. Как вода, в которую никогда не кидали камней. Не то чтобы ты ни к чему не рвался, не желал или вожделел, нет, все это и с тобой тоже происходит, — но ты сохраняешь невинность. Отсюда же и твоя безумная тяга к красоте. Ты ведь не случайно выбрал писать именно об ангелах. Они сама чистота. Большей чистоты уже не бывает.
— Но не в моей книге. У меня речь об их телесности, о теле.
— Да, но они все равно остаются символами чистоты. И падения. Но ты сделал их подобными людям, позволил им пасть, впасть не в грех, но в человеческое.
— Если рассуждать абстрактно, ты в чем-то прав. Тринадцатилетка и есть невинность, и что с ней происходит? Все переходит в плотскую сферу.
— Тоже хорошая формулировка!
— Да-да. Ей приходится трахаться. А ангелам приходится стать людьми. Так что связь есть. Но все это происходит в бессознательном. В толще. И в этом смысле оно неправда. Возможно, я двигался в ту сторону, но не догадывался об этом. Я не знал, что написал книгу о стыде, пока не прочитал текста на задней стороне обложке. А о невинности и тринадцатилетке я задумался вообще гораздо позже.
— Но там все написано. Прямым текстом.
— Да, но невидимо для меня. Мне сейчас пришло в голову, что ты забыл одну вещь. Невинность похожа на глупость. Ты же ведь говоришь о глупости, да? О неведении?
— Вовсе нет, — сказал Гейр. — Невинность и чистота стали синонимами глупости, но только в наше время. Мы живем в такое время, когда выигрывает самый опытный. Это чистое безумие. Все знают, куда катится модернизм: ты создаешь форму, ломая форму, и так продолжается в бесконечной регрессии и будет продолжаться, пока все будет так же, — соответственно, побеждать будет опыт. Уникальность в наши дни, самостоятельное действие во всей его чистоте — это отказаться, не принимать. Принимать — слишком легко. Потому что брать на самом деле нечего. Где-то там я бы тебя и поместил. Поближе к святым, короче говоря.
Я улыбнулся. Подошла официантка с нашим пивом.
— Скол! — сказал я.
— Скол! — ответил Гейр.
Я сделал большой глоток, стер пену с губ тыльной стороной руки и поставил стакан на подставку перед собой. Что-то есть духоподъемное в этом светлом золотистом цвете, подумал я. Потом снова посмотрел на Гейра.
— К святым? — переспросил я.
— Да. Мне кажется, католические святые верили, думали и действовали примерно так же.
— Тебе не кажется, что это некоторый перебор?
— Ничуть. По мне, то, что ты делаешь, называется словом «истязать».
— Что именно?
— Жизнь, возможности, то, как жить, как творить. Творить жизнь, не литературу. С моей точки зрения, ты живешь в почти пугающей аскезе. Вернее, нет, купаешься в аскезе. Что, как я уже говорил, крайне необычно. Явное отклонение от общей нормы. Не помню, чтобы я встречал кого-то или хотя бы слышал… тут действительно впору обратить взгляд на святых или Отцов Церкви.
— Слушай, хватит.
— Ты сам напросился. И у меня нет для тебя другой системы названий и понятий. Но у тебя это не поверхностная черта, не выученная социальная норма, не показная мораль. Нет, у тебя это религия. Естественно, без Бога. Ты единственный известный мне человек, кто может причаститься не веруя, и это не будет кощунством.
— Ты знаешь других, кто так бы делал?
— Да, но не так чистосердечно. Я сам так сделал, когда конфирмовался. Но я это сделал за деньги. А потом вышел из госцеркви. А на что я потратил деньги? Правильно, купил себе нож. Но мы говорили о другом. О чем?
— Обо мне.
— Верно. Так вот, у тебя есть нечто общее с Беккетом. Не в манере письма, но в схожести со святыми. Помнишь, Чоран писал где-то, что в сравнении с Беккетом он шлюха? Ха-ха-ха! Справедливое высказывание! Ха-ха-ха! Чоран, кстати, считался одним из самых неподкупных. Я смотрю на твою жизнь, и она кажется мне потраченной совершенно впустую. Я думаю так обо всех жизнях, но о твоей в большей степени, потому что там было больше чего растрачивать. Твоя нравственность — не самодекларация, как думал тот идиот, — а самая твоя суть. Не больше и не меньше. И вот это огромное расхождение между нами делает возможными наши ежедневные разговоры. Оно называется симпатией. Я могу симпатизировать твоей судьбе. Потому что судьба — она и есть судьба, ты с ней ничего поделать не можешь. Я могу только наблюдать. С тобой ничего нельзя поделать. И вообще поделать ничего нельзя. Мне тебя жалко. Но я могу только наблюдать за этим, как за трагедией, которая происходит у меня на глазах. Трагедия, как ты помнишь, это когда с великим человеком все идет хуже некуда. В отличие от комедии, где у плохого человека все складывается наилучшим образом.
— Почему трагедия?
— Потому что все так безрадостно. И жизнь у тебя безрадостная. У тебя горы ресурсов и талант, но они застят тебе дорогу, все обращается в искусство, но не в жизнь. Ты как Мидас. К чему он ни прикоснется, все обращается в золото, но его это не радует. Там, где он проходит, все блестит и сияет. Другие ищут, ищут, а найдут крупицу золота, сразу продают его, чтобы прикупить себе жизни, роскоши, музыки, танцев, удовольствий, изобилия, да хоть потрахаться, да, наброситься на бабу и на час-другой забыть думать о собственной жизни. Но ты вожделеешь невинности, а это нерешаемая задача. Вожделение и невинность не сойдутся. Высокое перестает быть высоким, если ты суешь туда елдак. Ты угодил в положение Мидаса, ты можешь получить все. Сколько таких людей, ты думаешь? Всего ничего. Сколько из них отказываются со словами «спасибо, не надо»? И того меньше. Насколько я знаю, вообще один. Если это не трагедия, то что трагедия? Но думаешь, твой журналист смог бы это расписать?