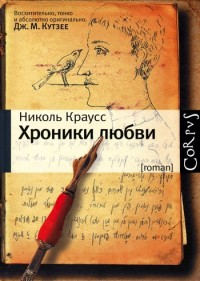Книга Большой дом - Николь Краусс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И вот теперь гигантским усилием я извлекла себя из квартиры и доставила к ней в кабинет, за девять кварталов от дома. Всю дорогу, через равные промежутки, мне приходилось останавливаться и хвататься за что-нибудь — за фонарный столб или забор, — чтобы земля не уходила из-под ног. Когда я, наконец, добралась до приемной, заставленной умными, траченными временем книгами, под мышками у меня темнели потные круги. Дверь открылась: доктор стояла на пороге кабинета, и солнце подсвечивало сзади ее золотистые, наспех заколотые на макушке волосы — она носила их так, ни на кого не похожим образом, сколько я ее помню, то есть последние лет двадцать, и мне всегда казалось, что в этом пучке она перед моим приходом спрятала какой-то предмет, который иначе было некуда деть. Я буквально упала ей на руки.
Усевшись с ногами на кушетку, застеленную знакомым серым шерстяным покрывалом, в окружении вещей, на которые я смотрела в прошлом так часто, что теперь они показались мне метками на карте моей души, я принялась описывать последние две недели. Доктор Лихтман перенесла других пациентов, чтобы выделить мне сдвоенный прием, и за полтора часа — впервые за эти дни — ко мне медленно, точно на ощупь, начал возвращаться хоть какой-то покой. Я рассказывала о панике, которая довела меня до совершенного физического и творческого бессилия, о чудовище, которое выпрыгнуло откуда ни возьмись и сделало из меня совершенно другого, незнакомого мне человека, но одновременно — на ином уровне сознания, препоручив доктору Лихтман размышлять о том, о чем до сих пор размышляла сама, — я вдруг поняла, что надо сделать. Идея была совершенно бредовая, ваша честь, но она давала надежду на спасение.
Я выбрала жизнь, в которой практически не присутствуют другие, я освободила ее от бремени человеческих связей, которые удерживают людей друг подле друга, опутывают их с головы до ног, но жизнь эта имеет смысл, только когда я пишу действительно то, ради чего изолировала себя от мира. Строго говоря, ничего тяжкого в моем отшельничестве не было и нет. Что-то естественным образом влекло меня на обочину, подальше от людской суеты, я предпочла осмысленность литературы бессмысленности и случайности окружающей жизни, я предпочла бесформенную свободу, а не взаимодействие с людьми, которое требует ежедневного здорового труда, подчинения чужой логике, чужому потоку мыслей — зачем мне такой хомут? Я хлебнула этих радостей — сначала в молодости, в любовных связях, затем в браке с С. — и все кончилось плохо. Оглядываясь назад, я понимаю, что была, пусть недолго, счастлива с Р. по одной простой причине: он был отрешен от мира не меньше, а то и больше, чем я. Мы существовали каждый в своем скафандре и по случайности барахтались в едином пространстве, среди старинной мебели его матери. А потом он уплыл прочь, его вынесло из нашей квартиры через какое-то отверстие в открытый космос, в неведомые дали. Затем в моей жизни последовала череда заранее обреченных отношений, затем мой брак, а когда мы с С. развелись, я дала себе зарок, что эта попытка была последней. За прошедшие после развода пять-шесть лет у меня были короткие связи, но едва эти мужчины заикались о чем-то большем, я отказывалась и вскоре с ними порывала. Я выбрала одинокую жизнь.
Вы спросите, хороша ли такая жизнь? Верно, ваша честь? Знаете, я поняла, что нужно что-то принести в жертву. Я выбрала свободу, длинные, толком не распланированные дни, заполненные лишь сменой моих настроений, и я улавливаю эти настроения, отделяя одно от другого точкой с запятой. Моя работа была безответственным воплощением чистой свободы. И если я пренебрегала людьми или даже игнорировала их, то только потому, что они, как мне казалось, тайно замышляют урезать эту свободу, вмешаться в мою жизнь и принудить к компромиссу. Едва я просыпалась, с первых слов, со «с добрым утром», обращенным к С., начинались ограничения и неискренняя вежливость. Мы развиваем в себе эти привычки: прежде всего доброжелательность, отзывчивость, терпеливую заинтересованность. А еще надо уметь развлекать и забавлять. Это изнурительно, поверьте, ничуть не легче, чем, наврав с три короба, тянуть ниточки вранья и ни разу не проколоться. И так изо дня в день. И ты уже слышишь, как правда переворачивается в гробу. А воображение умирает более медленной смертью, от удушья. Ты пытаешься возвести стены, отгородить тот клочок, где работаешь, где вспахиваешь свою делянку, и установить там особый климат и правила. Но привычки просачиваются и сюда, точно отравленные грунтовые воды, и все, что ты пыталась там вырастить, задыхается и увядает. В сущности, я хочу сказать, что на всех стульях не усидишь. Поэтому я принесла эту жертву, оставила себя для себя, и прошло это относительно безболезненно.
Что до идеи, которая зародилась в моей голове во время первого приема у доктора Лихтман, она завладела мною всецело, поэтому после десяти или одиннадцати почти ежедневных сеансов я, глотая ксанакс, сумела обуздать свои панические кошмары, снизив их градус до приемлемой тревожности, и объявила врачу, что через неделю отправляюсь в путешествие. Она, конечно, удивилась и спросила, куда я еду. Мне пришли на ум всевозможные ответы — все города, куда меня приглашали в разные годы и где, возможно, не откажутся принять и теперь. Рим. Берлин. Стамбул. Но в конце концов я произнесла ответ, который знала заранее, единственно возможный ответ. Иерусалим. Она вздернула брови. Нет-нет, я не намерена забирать стол назад, заверила ее я. Тогда зачем? Она чуть повернула голову, и солнце пронзило и вызолотило ее волосы, эту наспех поднятую и заколотую на макушке волну, сделав ее почти прозрачной, почти — да не совсем, она там по-прежнему что-то прятала, возможно, даже тайный ключ от моего психического здоровья. Но тут время, отведенное на прием, истекло, и отвечать на вопрос мне не пришлось. У двери мы пожали друг другу руки — этот жест всегда казался мне странно неуместным, словно все твои внутренности разложены на операционном столе, но вот время вышло, и хирург заворачивает каждый орган в отдельный целлофановый пакет, закладывает их обратно и — рукопожатием — поспешно зашивает твое тело. В следующую пятницу, попросив консьержа приглядеть за моей квартирой, я приняла одну таблетку ксанакса перед таможенным и личным досмотром, другую — садясь в самолет, и полетела ночным рейсом в Израиль, в аэропорт имени Бен-Гуриона.
И что тебе в голову взбрело? Я против! — сказал я тогда. Почему против? Ты, когда сердился, смотрел исподлобья и щурил глаза. Про что писать-то будешь? В ответ ты изложил замысловатую историю, где не то четверых, не то шестерых, а может, и восемь человек разложили по разным комнатам, опутали электродами и проводами и подсоединили к огромной белой акуле. Всю ночь акула плавает в подсвеченном резервуаре и видит сны об этих людях. Нет, не так. Она видит их сны, их собственные кошмары, все то ужасное, что почти невозможно вынести. А люди спят, и все ужасное покидает их через проводочки и перекачивается в эту удивительную, исполосованную шрамами рыбу, которая вбирает в себя их мучения. И вот ты умолк, и я тоже долго молчал. Кто эти люди? — наконец спросил я. Просто люди, ответил ты. Я съел горстку орехов, не сводя взгляда с твоего лица. Да-а, бредятина патентованная, даже не знаю, с чего начать. Бред? — уточнил ты. В чем бред? Голос твой дал петуха. На дне твоих глаз мать вечно усматривала страдание. Ребенок, затравленный тираном-отцом. Но в том, что ты не стал писателем, я, видит Бог, не виноват.