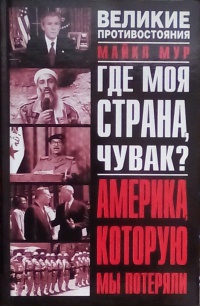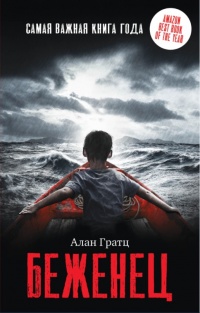Книга Отец и мать - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако перед тем как совсем уснуть, ему вспомнилась-привиделась несколько лет назад умершая старуха-мать: в сорок третьем она провожала его на фронт. У эшелона, которому вот-вот тронуться, она сказала сыну:
– Коленька, отца твоего провожала в прошлом году, не перекрестила, – и он погиб. Не противься, сынок, – и она подняла руку.
– Нет, мама! – Но она уже успела осенить его меленьким, чтоб люди не видели, чтоб не позорить сына, крестным знамением.
– Мама, мама, – неожиданно шепнул нынешний Николай Иванович, в сладостной детской очарованности засыпая.
А может быть, и не засыпал вовсе, а распускался и растворялся мало-помалу всей своей сущностью, духовной и физической, в покое, как в каком-то тёплом, уютном пространстве без пределов и ограничений, в своём нежданном счастье. Его мысли и душа, может статься, впервые за его непростую, привередливо поворотливую жизнь, сделались лёгкими и друг с дружкой согласными.
К нему заглянула дочь, чтобы сказать – «Мы, папа, уходим. Пожалуйста, проводи нас», но увидела его спящим. Она очень удивилась: ещё только-только наступил вечер, а отец никогда не ложился спать столь рано, обычно – заполночь, всё чаёвничая и штудируя газеты и разные обкомовские постановления и резолюции. Дочь легонько закрыла дверь и – своим, приставив палец к губам: тс-с-с-с!
Сквозь завесы дрёмы-сна Николай Иванович распознал приход дочери, но ему не хотелось нарушать столь нежно и покровительственно сошедшие на него тишину и покой. Не будят, значит, теперь сами в силах, – был он безмерно доволен.
Потом Николай Иванович расслышал шепотки за дверью, следом лёгкие – догадался, на цыпочках – шаги в коридоре и прихожке. Наконец, дверной замок щёлкнул, и Николай Иванович понял, что снова, снова остался в своей большой, рассчитанной на большую семью и конечно же большое счастье квартире один, совсем один. Но он не почувствовал в груди тягость, досаду, огорчение, как раньше нередко бывало, когда неизменно из года в год потёмочными вечерами возвращался в свою однообразно пустую и гулко пустынную квартиру из обкомовской муравейной толчеи своего кабинета и коридоров. Он в эти благодатные минуты чувствовал только лёгкость. И – благодарность, великую нежную благодарность. Но судьбе ли, обстоятельствам ли, кому-то из людей ли, – кто объяснит? Да и надо ли? Он осознал с непривычным для себя восторгом, что душа его сегодня, вот в эти минуты счастья его дочери и внука переменилась: с неё явственно спала какая-то тёмная, не пропускавшая света извне драпировка, и вся она, вздохнув, наконец-то, вольно, полно, вобрав в утолении жадно в себя света дня, раздвинулась, даже можно сказать, выросла и вроде бы, чуял, округлилась. Николай Иванович сейчас чувствовал свою душу предельно физически, почти осязаемо. Протяни, казалось, руку – и вот она. Душа представилась ему воздушным шариком, который ему кто-то вручил и сказал:
– Держи крепко. А ослабишься хотя бы чуток – упустишь шарик навсегда: улетит к небу.
Вспомнил: точь-в-точь так же ему однажды сказал отец, подавая в день какого-то праздника накачанный гелеем шарик. И маленький Николушка не упустил его, даже тогда, когда вместе с ним весело и высоко подпрыгивал на улице, радуясь со второго-третьего подскока одному новому, захватывающему ощущению – к небу тебя шариком подтягивает, если не сказать, подбрасывает, к взлёту стремит.
– Не упустить бы шарик, – серьёзно и тревожно подумал-шепнул Николай Иванович, неосознанно обхватывая руками маленькую подушку-подкладушку.
– Оказывается, таким и бывает счастье, а ты, стреляный воробей, гордец, и не знал до сегодняшнего дня, – мягко покачивались в нём мысли-монологи.
Николай Иванович уже не понимал, спит он или бодрствует, потому что душа его со всей очевидностью бодрствовала сама по себе, полная сил и желания действия, посвежевшая и ожившая. Однако тело его, уже не молодое, ломанное и тёртое жизнью, а сейчас к тому же опутанное слабостью и томлением, было тяжёлым и негибким, тяжёлым и негибким до того, что он, во сне или всё же наяву, даже не смог, настырно проверяя себя, приподнять руку или открыть веки.
Но он не испугался, не подумал, что заболел или даже умирает, потому что уже разгадал и принял всецело и благодарно – какое блаженство жить душой.
* * *
Через три месяца Людмила поняла, обомлев: беременна. А Афанасий, узнав, заботливо-осторожно приобнял жену, – сверху целовал её в темечко и приговаривал:
– Жёнушка моя, ласточка моя.
Супруги Ветровы стали ждать прибавления в семье.
Екатерина и Леонардо жили уже несколько лет вместе, в её уютном и тихом домике на яру над Иркутом, перед щедро распахнутыми просторами и тайги, и города, и ближайших деревенек, но жили как-то непонятно – и для окружающих, и даже друг для друга.
Эта непонятность, какая-то недовыраженность их совместной жизни происходила оттого, что они не были мужем и женой, ни официально, когда в присутствии свидетелей, родных и близких принято расписываться в ЗАГСе, ни в полюбовном уговоре между любящими – Екатерина так и не сказала ему «Да» на его неоднократное предложение «Выходи за меня замуж», но, однако, не сказала и «Нет».
Как они жили? Они жили как все – трудами на работе, хлопотами о насущном, мыслями о будущем. И в то же время не так и даже, возможно, совсем те так, как все или многие жители кругом.
Екатерина продолжала трудиться в своей районной библиотеке своего полюбившегося ей полудеревенского, печально, но и светло напоминающего родимую Переяславку Глазковского предместья, да ещё замечательным образом невдалеке от своего славного, приманчиво видного издали голубенького дома. Всё так же заведовала читальным залом и периодикой. Она обожала своё тихое библиотечное дело, любовно обращалась с каждой книгой, особенно с порванной, ветхой, была заботлива и чутка с читателями. Её отдел, как и почти что изначально, – идеал порядка, упорядоченности, вежливости, и на стене возле её рабочего стола неизменно реял своим единственным, но кумачово-красным бархатным крылом вымпел – «Ударник коммунистического труда». С сотрудницами своими и начальством она была всегда ровна, приветлива, однако в душу свою никого не впускала, в откровенные разговоры не вступала. Но никто о ней не подумал или не пошептался с другим – «Какая холодная! Наверное, гордячка ещё та». Напротив, она для многих коллег и знакомых была необходима, желанна, к ней шли посоветоваться, а то и по-женски поплакаться или поделиться радостью, и она находила для человека хотя и коротенькое, но весомое доброе слово. Её уже не считали странной, чудачкой, как раньше, но знали, что она не такая, как все. С ней обходились по-прежнему не сказать, чтобы недоверчиво, настороженно, но как-то приглядчиво, словно бы говоря: «Ну-кась, дай-ка я присмотрюсь к тебе получше: что ты за птица?» Что-то такое неуловимое, неясное в ней смущало людей, заставляло задуматься, приглядеться.
В особенности волновали собеседника её глаза: они, нездешне и чарующе чёрные, были глубоки и темны печалью, но мнилось, что светятся, и светятся каким-то светлым светом. Волновало и выражение её лица: людям виделось, что на её губах и щёках полнокровно, но тихо и робко живёт несходящая с них улыбка.