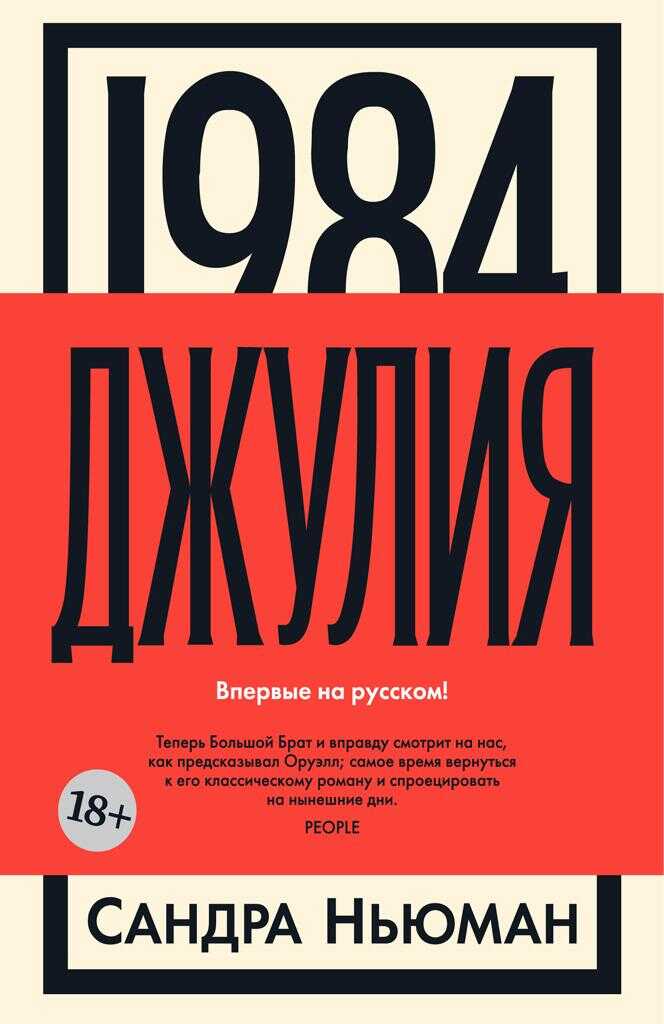Книга Русское: Реверберации - Никита Львович Елисеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вадим вскочил, махая рукой, не понимая ничего, чувствуя только нестерпимую боль между пальцами. Комок горящей ваты вывалился от этих его взмахов, и Вадим, всхлипнув тихонечко, скрутился в своем углу.
– Во дает Саламандра, – гоготнул Ворона, – из огня целехонек. Одно слово – Саламандра…
– Ворона, ты тупорылый, что ли? – привстал у себя Голуба. – В хате дышать нечем, только ваты горелой не хватало.
– Зач-чем палил, пп-падла? – Заревел Пеца. – В стойло захотел?
– Да я ж ничо, – забормотал Ворона. – Я ж, мужики, ничо… Это ж он опять… Ему сколько говорилось на полу не спать – на полу одни черти спят, а люди на матрацах спят, от него ж вшивота пойдет. – Ворона торопился, спешил переключить взбухающее раздражение камеры на Вадима. – Он языка ж не понимает.
– Ворона, глохни, – вступил Берет. – Еще раз закосишь – на веник месяц. А ты, Саламандра, гляди – к параше пойдешь спать.
Снова плотное месиво затянуло прорехи, образованные в нем голосами; только пузырями лопались всхлипы тяжкого дыхания где-то рядом, нет, не рядом – это его собственное дыхание. Вадим все еще вздрагивал, с запозданием понимая все, происшедшее только что в камере. «Господи! – беззвучно взмолился он. – Я не могу больше, Господи… Сделай так, чтобы не звали меня Саламандрой… Сделай что-нибудь…»
Эти его мучения начались еще под следствием. Вечером как-то заколыхался перед ним неповоротливый и вечно сонный камерный авторитет Туша, человек в здешней жизни бывалый, попавший снова на круги привычных коридоров из-за того, что придушил чуть не до смерти своего родственника – милиционера. Сам он говорил, что придушил-то ненароком: пили они вместе и обнимались там или еще что; Туша под одобрительный смех сокамерников рассказывал, что обнимал-обнимал он этого родича, а потом вдруг подумал, кого же он обнимает – мента обнимает, ну и сжал посильнее…
– Эй, землячок, – перед Вадимом ходил ходуном живот и как бы отдельно двигалась на нем здоровенная русалка, которую Туша почесывал, ковыряясь в ее пупке (оба их пупка – его и русалкин – совпадали). – Давай мы твои сапоги обменяем на плиту чая.
– У меня нету сапог, – не понял сначала Вадим, но по снисходительному смеху и подергиваниям русалки сообразил и зачастил возмущенно, но и просительно как-то… – Это же «Саламандра» – мировая фирма… Как же можно за плиту чая?.. Плита чая – она же грошей стоит… Им же ни сроку, ни сносу – «Саламандра» ведь.
– Так что из этого, что им сроку нет? Тебе ж срок будет, – русалка мелко задрожала, – а в зоне тебе новые выдадут, и ни о чем гоношиться не надо будет. В зоне там такие саламандры отхватишь – ноги сносишь, а им хоть бы что…
– Но как же можно? – не унимался Вадим и, не находя в себе сил на простой и достойный отказ, жалобно пытался убедить Тушу. – Они же стоят не трояк какой… Их же и не достать нигде…
– Забудь, недотепа: здесь другие деньги и другая цена.
– Нет-нет, так нельзя. – Почему-то Вадиму, все потерявшему в считаные дни, было до слез жалко свою обувку. – Ведь «Саламандра», – этот аргумент казался ему чем-то очень убедительным.
– Значит, зажилил? – Русалка осуждающе вильнула хвостом. – Жаба, значит, душит? Общаковое курево – это можно, а чай помочь на общак раздобыть – жаба душит? Ну гляди, Саламандра, ты сам решил…
Много раз уже Вадим проклял ту свою оплошную жадность: часто он уговаривал себя, что не такое уж плохое у него прозвище (он здесь наслушался разных «погонял»), однажды даже на прогулке одному принялся втолковывать, кто это такие саламандры, но в ответ из-под узенького сморщенного лобика получил: «Прикидываю, что это вроде паучка ядовитого и вонючего, раздавить – и всех делов»; и еще раз попытался Вадим поведать красивую легенду о живущих в огне саламандрах – с тех пор не раз уже просыпался он от жгучей боли, дрыгая руками или ногами, где вонюче тлели надерганные из матрацев кусочки ваты.
После суда в новой камере прозвище неотвратимо настигло его, и не находилось способа сбросить это, уцепившееся клещом, ненавистное имя. А сбросить так хотелось, что Вадим попытался даже в этой камере – благо она была в другом крыле тюрьмы и на другом этаже – скрыть свое погоняло, но Пеца отправил куда-то клочок бумаги, получил к вечеру ответ, и очередная Вадимова оплошность тут же отозвалась презрительным недоверием к нему сокамерников. Да еще на прогулке как-то удалось Берету перекричаться с Тушей, и невразумительный их перекрик краешком больно задел Вадима («Как там Саламандра – не сгорел еще?» – «Тлеет пока – только вонь стоит»)…
Загрохотала железная дверь, залязгали многочисленные запоры (по солнечным часам Вадим отметил, что неурочно), и головы сразу же повысовывались в проход, а дежурный подскочил к двери докладывать. Докладывать не понадобилось, потому что в камеру никто из начальства не вошел, а в приоткрытую еле-еле дверь протиснулся сначала развернутый матрац, а следом – ободранный, обросший до бороды, искривленный весь как-то однобоко, длинный парень.
Даже Вадим понимал, что это явление не совсем обычное: судя по бороде, примерно месяц новичок без бани (там стригут и бреют всех, кто хоть немного зарос, но это благо очень напоминает издевательское наказание, потому что… впрочем, стрижка и бритье – отдельная тема).
– Что за хата? – Новенький смотрел настороженно.
– Обычная… осужденка. – Пеца выполз в проход и подался к двери. – А тебе какая надо?
– Устраивает. – Новенький кинул матрац в проход и уселся на лавку за общак.
Пеца молча пододвинул к нему папиросу и спички, примащиваясь на ближайшую к общаку шконку.
Новичок обвел взглядом свешивающиеся головы, кивнул: «здорово, мужики» и закурил, прикрыв глаза.
– Ты откуда? – не выдержал Ворона.
– Глохни, – бросил ему Берет, тоже выбираясь в проход, но в натянутых уже на мокрое тело тряпках. Он уселся за общаком напротив новичка.
– Из карцера, – не открывая глаз, продолжал курить заросший парень. – Месяц в три приема, Веселый я, – представился он.
– Ларек, дайка ему, – бросил Пеца, и Ларек, натянув вылинявшее трико, скатился со шконки, всовывая руки в рукава некогда белой футболки.
Веселый уже докурил и сидел обессиленный, подрагивая здоровенными ладонями, а Ларек придвигал к нему толстый ломоть хлеба с плотным сахарным слоем поверху.
– Спасибо, мужики, но я потом, а вот если можно покурить бы еще…
– Гляди, чтобы крыша не поехала с непривычки. – Берет протянул сигарету. – Слыхал, что устроил ты потеху…
– Я от этой потехи еще по сегодня кровью харкаю…