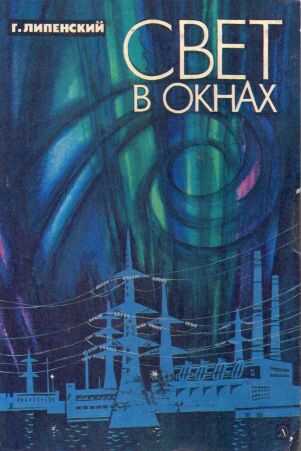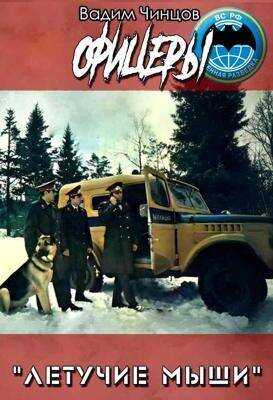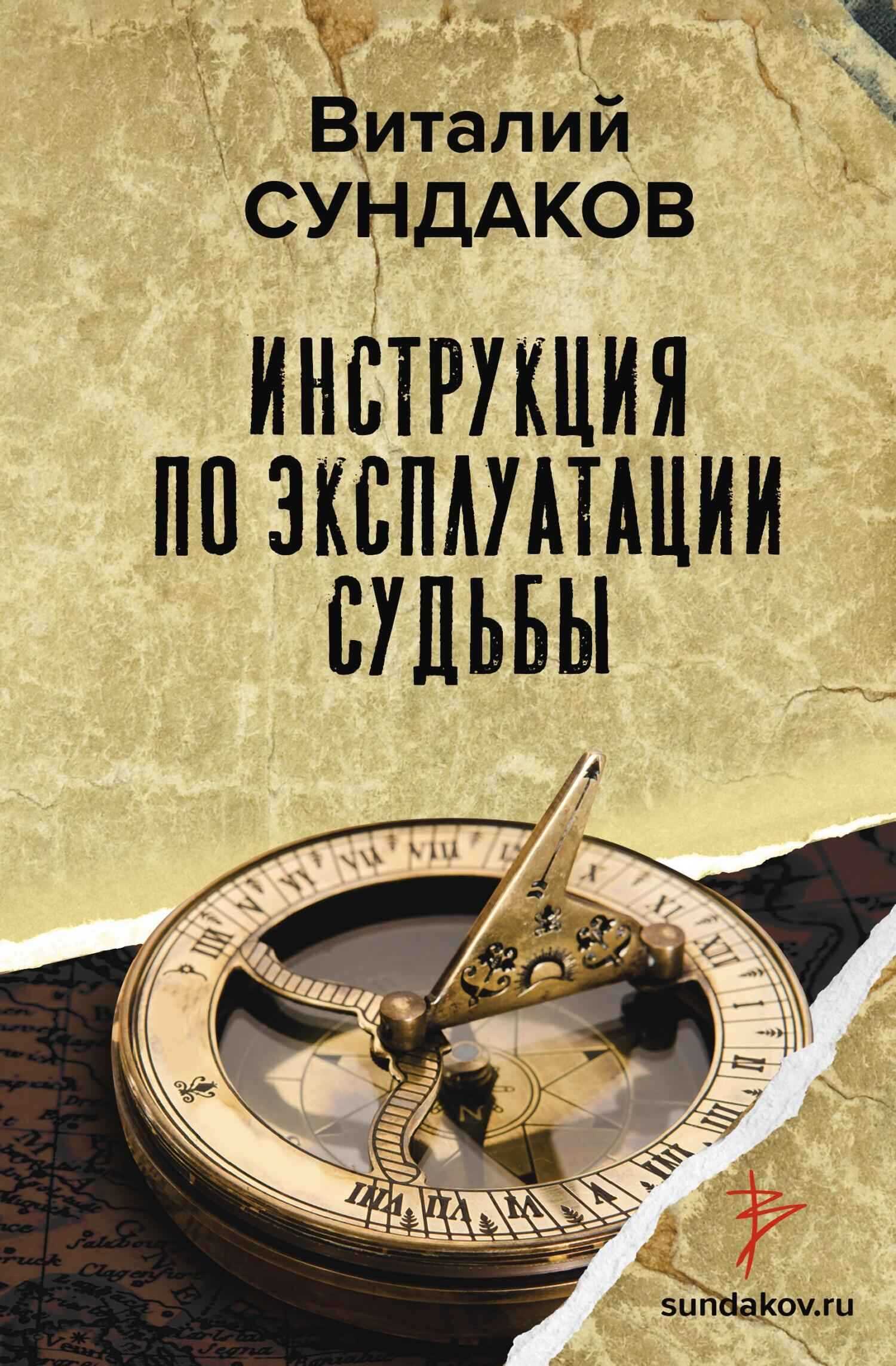Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но мне определенно не везло с хорошими местами. Скоро я вынужден был покинуть маслозавод, совсем не по своему желанию. Случилось так, что истопник, подогревавший котлы для стерилизации молока, неожиданно заболел, и директор заменил его мною. Однако мой опыт истопника в данном случае оказался совершенно бесполезным. Печи здесь топились караганником – топливом, совсем для меня незнакомым. Как я ни бился, огонь в печах, набитых рубленым кустарником, упорно не желал разгораться. Проклятый Казахстан! Здесь даже дерево не горело.
Это не были плотно, один к одному, уложенные сухие русские дрова – сосновые, осиновые, березовые, – которые сразу охватывает жаркое золотое пламя, и они начинают весело гудеть да потрескивать. Это были тонкие, сырые, искореженные сучья, похожие на мерзлых, с шипением оттаивавших змей, в пустых прогалах между ними бродили и печально гасли бледные хилые огоньки. Я подкладывал новые и новые сучья, я сидел на корточках перед раскрытой печью и дул до того, что голова готова была лопнуть и из глаз текли слезы, но все было напрасно. Огонь не собирался разгораться. Все производство остановилось. Я был в отчаянии.
Кочегарка не имела двери, которую можно было закрыть, и у печей стоял такой же мороз, что и на улице, а разбитые мои ботинки совсем промокли, шлепая по лужам. Сначала ноги у меня мерзли и болели от холода, но вскоре я перестал их чувствовать.
Несколько раз директор присылал узнать, почему не топят печи, присланные люди тоже начинали в помощь мне раздувать огонь, однако ничего не выходило. Наконец меня совсем отстранили от печей и кое-как, соединенными усилиями, разожгли пламя. Маслозавод наконец заработал.
К этому времени ступни у меня совсем одеревенели, и я ходил по земле как на ходулях. В таком состоянии и в барак вернулся. Лег спать. Ночью проснулся от дикой режущей боли в ногах. Они оттаяли в тепле и дали себя знать. Оказалось, до такой степени я обморозил ноги, что не только идти на работу – пришлось на следующий день лечь в больницу. Смешно, не правда ли? Истопник, работая у печей, до того поморозился, что в больницу положили.
Несколько месяцев вновь провел я в белом раю Фанни Борисовны. Ноги мне, к счастью, не пришлось ампутировать, уцелели, обошлось только сухой гангреной. Кончики трех пальцев на ногах почернели, как уголь, и в конце концов сами собой отвалились, тихо и безболезненно.
Весной из стационара взяли меня в этап, и я попал в другое отделение Карлага. Бурминский период закончился.
40
Немало лет прошло с того времени, и многое уже выветрилось из памяти. Забылись некоторые имена и фамилии, отдельные даты, хронология тех или иных событий. Так, например, не могу сказать точно, к какому именно периоду пребывания на Карабасе относится случай, когда меня едва не убили в бараке. Но самый этот случай помню хорошо. Помню и дневального в бараке Женьку – рыжего розовощекого парня из блатных, в солдатской гимнастерке, ходившего всегда с толстой палкой.
Видимо, пленившись моим подходящим для роли вышибалы ростом и остатками на мне военной формы, он предложил работать на смену ему ночным дневальным. Я согласился – все лишний черпак баланды. Узнав, что я пятьдесят восьмая, Женька подмигнул мне и добродушно осведомился: «Что, Абрам стукнул?» Очевидно, полагал, что стукачами могут быть только евреи.
Заканчивая дневное свое дежурство, он сообщил мне только что полученное распоряжение администрации: ночью выпускать из барака на оправку только лишь по одному человеку. Приказ объяснялся тем, что была якобы обнаружена попытка к побегу. И вот началась веселенькая для меня ночь. Огромный, едва освещенный арестантский барак – сарай, нары в четыре ряда, двухъярусные, люди спят, лежа на голых, редко положенных досках. В полумраке то и дело и там и тут поднимаются темные фигуры, слезают с нар и плетутся, шаркая ногами, к выходной двери. От водянистой пищи, от физической слабости всех тянет в уборную. А в уборную на дворе не пускают. У двери стою я, новый ночной дневальный, и выпускаю только по одному человеку, да и то выждав, когда вернется предыдущий. Скапливается целая очередь, люди нетерпеливо ждут, переминаясь на месте, конечно, ворчат. Ворчанье переходит в озлобленную ругань, на мою разнесчастную голову выплюются лагерные проклятья. А чем виноват я, вынужденный, скрепя сердце, выполнять идиотский приказ?
Слез с нар здоровенный верзила, по всем замашкам блатарь, и, бесцеремонно расталкивая собравшихся людей, пробился к самой двери. Я преградил ему дорогу. Начавшееся у нас пререканье кончилось тем, что я схватил его за шиворот, вытолкал и закрыл за ним дверь…
Прошло с четверть часа. Очередь у двери постепенно рассосалась – я уже не стал так строго следовать приказу, – наступила пауза, и я начал прохаживаться по пустынному проходу между нар, на которых в два яруса спали сотни людей. Подвешенная под потолком коптилка еле брезжила в полутьме. Было совсем тихо. Барак спал.
Внезапно на голову мне обрушился сзади оглушающий удар. Точно горячий песок просыпался по спине, между лопаток, к горлу подступила дурнота, стало томно, колени подогнулись, и я повалился на землю. Смутно различил чей-то тревожный возглас на нарах:
– Дневального убили!
А произошло вот что. Верзила, которого я вытолкал из барака, мстительно подобрал на дворе камень, затем, улучив минуту, когда я повернулся к двери спиной, вернулся и, беззвучно подкравшись сзади, хватил меня по голове. Счастье, что на мне была присланная мамой старая шапка-финка, из кожи и ваты. Она спасла. Череп у меня не был проломлен, и сознание сохранилось. Я недвижимо лежал на грязном земляном полу в полузабытьи, но слышал поднявшийся переполох, слышал, как поднятый с постели Женька расправляется с тем, кто пытался меня убить. Бил он его страшно, как умеют бить блатари, он свалил верзилу на землю и в ярости топтал ногами, я слышал только тупые удары и сдавленное кряхтенье:
– Ох, Женька!.. Ох, не надо!..
А на другой день избитый, казалось, до полусмерти бандюга прохаживался как ни в чем не бывало мимо меня, лежавшего на нарах, и грозился:
– Погоди, я с тобой еще не так разделаюсь!
Злоба его почему-то была обращена не на Женьку, а на меня.
Но все обошлось благополучно. Встретиться нам больше не пришлось.
Каким только трудом не занимался я за долгие годы казахстанской жизни! Был рабочим при больнице, учетчиком, косарем, выполнял разного вида работы на огородах, был ночным сторожем, кухонным мужиком, истопником, пас волов, был продуктовозом,