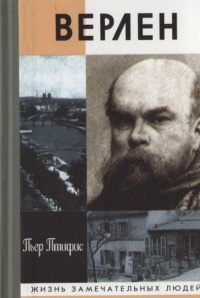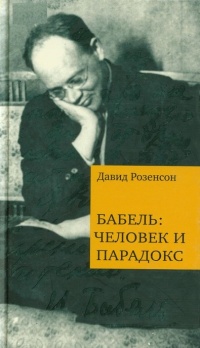Книга Жизнь Рембо - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И все же у Барде сложилось впечатление, что Рембо намеревался вернуться в литературу, как только он «накопит достаточное состояние»[731]. По словам экономки Барде, он «много писал» и создавал некоторые beaux ouvrages («прекрасные сочинения»)[732] – термин, который предполагает иллюстрированное издание.
Есть убедительные доказательства того, что Рембо вел записи обо всех своих путешествиях[733], и, хотя замысел издания книги об Абиссинии не обрел плоть, он почти решил закончить ее, когда услы шал, что епископ Таурин пишет исследование о Хараре: «Я выбью почву из-под ног монсеньора!»[734]
Любопытно, что теперь Рембо во всех своих письмах стал говорить о своем возможном возвращении во Францию. Это бесконечно отлагавшееся возвращение домой могло состояться лишь при условии накопления необходимой суммы денег. Кроме того, эта мечта способна была воплотиться в жизнь только при условии благоприобретения столь необходимого ему оптимизма, который смог бы нивелировать прошлые неудачи и несбывшие надежды. Рембо преследуют страхи: «Во Франции я буду чужим и не найду работы» (5 мая 1884 года); «Меня будут считать стариком, и только вдовы заинтересуются мною!» (29 мая); «Про меня совсем забудут, и мне придется начинать все заново!» (10 сентября).
Когда Рембо снова поселился в Адене на долгий отрезок времени, он, казалось, обрел нечто похожее на идеальный образ существования. У него было постоянно расширяющееся будущее и философия, чтобы защищаться от самого себя: вместо стремления к свободе, он, казалось, стремится к состоянию «рабства», прикрываясь как щитом предопределенностью судьбы. Подобный фатализм – вовсе не уникален, похожих убеждений придерживаются не только приверженцы ислама в африканских пустынях – любой крестьянин на ферме его матери мог бы заявить: «Так я зарабатываю здесь на жизнь, и, поскольку каждый является рабом этой жалкой судьбы, я влачу существование здесь, а не где-либо еще». «Как мусульманин, я знаю: чему быть, то и сбудется».
Предполагаемые доказательства обращения Рембо в ислам столь же убедительны, как и его тюрбан из полотенца: «Как говорят мусульмане, судьба предписана! Такова жизнь. Это не смешно!»
Письма этого периода (с апреля 1884 по ноябрь 1885 года) наглядно отражают психическое состояние Рембо. Те полтора года в Адене были периодом непрерывных невзгод. Один из агентов Барде, Шарль Коттон, сообщал 7 мая, что «Рембо выглядит очень несчастным оттого, что нечего делать»[735], но даже после того, как компания возместила свои убытки и в июне снова дала ему назначение, он по-прежнему кипел от раздражения.
Он должен был трудиться, как «раб», с 7 часов утра до 5 часов вечера. Рембо жаловался, что в Адене нет понятия погоды, есть просто климат – два сезона, которые не оставляли ничего для воображения: засушливая зима и «самое жаркое лето во всем мире!». Жизнь «запредельно дорога» и «невыносимо скучна». По его словам, там не было ни библиотек, ни газет. На самом деле в аденском отделении была небольшая коллекция серьезной и юмористической прессы, а также несколько оставленных кем-то романов, которые Рембо никогда не читал[736]. Выбор компании объясняется просто: аденские читатели «дикари или глупцы».
Стимер-Пойнт, расположенный в 8 километрах от аденского кратера, населяло небольшое племя европейцев – «идиотских бизнес-служащих, которые просаживают свое жалованье на бильярде, а потом проклинают это место, когда уезжают». Рембо называл их licheurs de petits verres («запойными»)[737]. Подобный комментарий мог быть сделан местным мусульманином, а Рембо был вполне доволен, когда люди думали, что он стал местным и поклоняется Аллаху.
Ориентализм Рембо – своего рода аллергическая реакция на Запад. Через полвека после «Восточных мотивов» Гюго экзотические атрибуты романтической поэзии – слоновая кость, шкуры животных и благовония – были суммами в бухгалтерских книгах Рембо. «Озарения» ушли не так уж далеко: «Я не упустил своей старой доли божественного счастья: отрезвляющий воздух этой горькой деревни кормит мой жестокий скептицизм в очень активной форме».
Положительной стороной этого периода было то, что ему удалось наконец «наскрести» чуть более 16 000 франков[738]. Однако он не мог никому доверить или отдать на хранение свои сбережения: «Ты вынужден таскать свою заначку с собой и никогда не выпускать ее из поля зрения». Деньги все равно скоро станут бесполезными. Он писал, что один год в Аденском заливе был как «четыре года» (5 мая 1884 года) или «пять лет» (14 апреля 1885 года) в любом другом месте. Даже если у него останется достаточно времени, чтобы вернуться во Францию и жить в праздной роскоши, в его физиологии произошла необратимая мутация. Он был скручен, как кактус в пустыне: «Люди, которые прожили здесь несколько лет, больше не могут провести зиму в Европе: они мгновенно упадут замертво от какой-нибудь легочной инфекции».
В апреле 1885 года у него случилась «желудочная лихорадка» – возможно, последствие перенесенного сифилиса. Впрочем, месяц спустя она была, казалось, у всего Адена: «Мы паримся в весенней бане. С кожи капает, желудки скисают, мысли путаются, бизнес – гнилой, новости плохие».
Когда Ивлин Во посетил Аден в 1931 году, он был почти разочарован, не найдя невероятно ужасного места из писем Рембо: «с климатом легендарно агрессивным для всего интеллектуального и инициативного; с пейзажем, лишенным любой растительности или живого существа; с обществом, полным безмятежного самодовольства»[739]. Как Бодлер среди бельгийцев, Рембо еще может быть лиричным, говоря об ужасно прозаичном. Аден и его венерическая муза вдохновили его на новые высоты омерзения. Его весенняя хандра имеет те же рваные ритмы, как и части «Одного лета в аду»:
«Довольно! Вот наказанье. – Вперед!
Ах, как пылают легкие, как грохочет в висках! На солнце – ночь у меня в глазах!» («Дурная кровь»)
На случай, если его матери удастся обнаружить намек на колониальный комфорт, он напоминает ей, что иссушенное дно кратера было также частью его внутреннего ландшафта: «Не думайте, что теперь у меня легкое время. В самом деле, я всегда замечал, что невозможно жить более скучно, чем я».
Рембо всегда приберегает лучшую прозу для изображения своих страданий[740]. Его «непрекращающееся нытье обо всем» было отрепетированными жалобами искусного нищего, тогда как в тени прохладных комнат «нищего» окружал совсем другой мир: история арабских древностей, учебники по иностранным языкам на письменном столе; запах кардамона, гвоздики и кокосового масла; тихие разговоры и европейские сигареты.