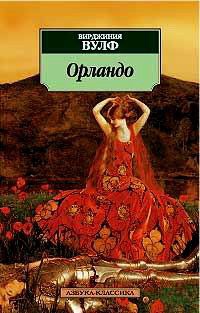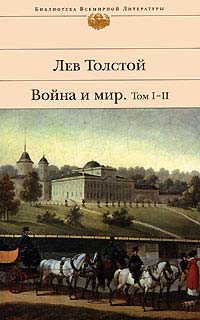Книга Доктор Живаго - Борис Пастернак
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ему снилась длинная вытянувшаяся квартира во много окон, вся на одну сторону, невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко опущенными до полу гардинами. В квартире спали в разных позах по-дорожному нераздетые люди, и был вагонный беспорядок, лежали объедки провизии на засаленных развернутых газетах, обглоданные неубранные кости жареных кур, крылышки и ножки, и стояли снятые на ночь и составленные парами на полу ботинки недолго гостящих родственников и знакомых, проезжих и бездомных. По квартире вся в хлопотах торопливо и бесшумно носилась из конца в конец хозяйка, Лара, в наскоро подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, что-то все время бездарно и некстати выясняя, а у нее уже не было для него ни минуты, и на его объяснения она на ходу отзывалась только поворотами головы в его сторону, тихими недоумевающими взглядами и невинными взрывами своего бесподобного серебристого смеха, единственными видами близости, которые для них еще остались. И так далека, холодна и притягательна была та, которой он все отдал, которую всему предпочел и противопоставлением которой все низвел и обесценил!
Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, словами. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам. Ему было жаль себя.
«Я заболеваю, я болен», — соображал он в минуты просветления, между полосами сна, жарового бреда и беспамятства. — «Это все же какой-то тиф, не описанный в руководствах, которого мы не проходили на медицинском факультете. Надо бы что-нибудь приготовить, надо поесть, а то я умру от голода».
Но при первой же попытке приподняться на локте он убеждался, что у него нет сил пошевельнуться, и лишался чувств или засыпал.
«Сколько времени я лежу тут, одетый?» — обдумывал он в один из таких проблесков. «Сколько часов? Сколько дней? Когда я свалился, начиналась весна. А теперь иней на окне. Такой рыхлый и грязный, что от него темно в комнате».
На кухне крысы гремели опрокинутыми тарелками, выбегали с той стороны вверх по стене, тяжелыми тушами сваливались на пол, отвратительно взвизгивали контральтовыми плачущими голосами.
И опять он спал и просыпался, и обнаруживал, что окна в снежной сетке инея налиты розовым жаром зари, которая рдеет в них, как красное вино, разлитое по хрустальным бокалам. И он не знал, и спрашивал себя, какая это заря, утренняя или вечерняя?
Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко и он упал духом, решив, что это начало помешательства.
В слезах от жалости к себе, он беззвучным шопотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него, и оставило его. «Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!»
И вдруг он понял, что он не грезит и это полнейшая правда, что он раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, а на свеже постланной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет, и сидит около кровати и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья.
В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к нему. У него темнело в глазах от радости и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства.
Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, добиваться, думать, и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произведением в её милостивых, восхитительных, красоту расточающих руках!
Юрий Андреевич быстро поправлялся. Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей лебедино-белой прелестью, влажно дышащим горловым шопотом своих вопросов и ответов.
Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги.
Еще более, чем общность душ, их объединяла пропасть, отделявшая их от остального мира. Им обоим было одинаково немило все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крикливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяют неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большою редкостью.
Их любовь была велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства.
Для них же, — и в этом была их исключительность, — мгновения, когда подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни.
— Ты должен непременно вернуться к своим. Я тебя лишнего дня не продержу. Но ты видишь, что делается. Едва мы слились с Советской Россией, как нас поглотила её разруха. Сибирью и Востоком затыкают её дыры. Ведь ты ничего не знаешь. За твою болезнь в городе так много изменилось! Запасы с наших складов перевозят в центр, в Москву. Для нее это капля в море, эти грузы исчезают в ней, как в бездонной бочке, а мы остаемся без продовольствия. Почта не ходит, прекратилось пассажирское сообщение, гонят одни маршруты с хлебом. Опять в городе ропот, как перед восстанием Гайды, опять в ответ на проявления недовольства бушует чрезвычайка.
Ну куда ты пустишься такой, кожа да кости, еле душа в теле?
Неужто опять пешком? Да ведь не дойдешь ты! Окрепни, наберись сил, тогда другое дело.
Не смею советовать, но на твоем месте, до отправки к своим, я бы немного послужила, непременно по специальности, это ценят, я пошла бы в наш губздрав, например. Он остался в прежней врачебной управе.
А то сам посуди. Сын застрелившегося сибирского миллионера, жена — дочь здешнего фабриканта и помещика. Был у партизан и бежал. Как там ни толкуй, это уход из военно-революционных рядов, дезертирство. Тебе ни в коем случае нельзя оставаться не у дел, лишенцем. Мое положение тоже не тверже. И я пойду на работу, поступлю в губоно. И подо мною почва горит.
— Как горит? А Стрельников?
— Оттого-то и горит, что Стрельников. Я еще прежде говорила тебе, как много у него врагов. Красная армия победила. Теперь беспартийным военным, которые стояли близко к верхам и слишком много знают, дадут по шапке. Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не оставлять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасности. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывается. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем. Я не люблю плакать, а если прибавлю о нем еще хоть слово, то чувствую, что разревусь.
— Ты любила, ты еще до сих пор очень любишь его?
— Но ведь я пошла за него замуж, он муж мой, Юрочка. Это высокий, светлый характер. Я глубоко виновата перед ним. Я не сделала ему ничего дурного, сказать так было бы не правдой. Но он огромного значения, большой, большой прямоты человек, а я — дрянь, я ничто в сравнении с ним. Вот моя вина. Но пожалуйста, довольно об этом. Как-нибудь в другой раз я сама к этому вернусь, обещаю тебе. Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя. Боттичеллиевская. Я была при её родах. Я с ней страшно сошлась. Но и об этом как-нибудь потом, прошу тебя. Да, так вот давай вместе служить. Будем оба ходить на службу. Каждый месяц получать жалованье миллиардами. У нас до последнего переворота были в ходу сибирские кредитки. Их аннулировали совсем недавно, и долгое время, всю твою болезнь, жили без денежных знаков. Да. Представь себе. Трудно поверить, но как-то обходились. Теперь в бывшее казначейство привезли целый маршрут бумажных денег, говорят, вагонов сорок, не меньше. Они отпечатаны большими листами двух цветов, синего и красного, как почтовые марки, и разбиты на мелкие графы. Синие по пяти миллионов клетка, красные достоинством в десять миллионов каждая. Линючие, плохая печать, краска расплывается.