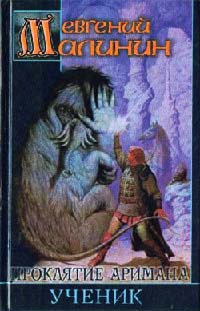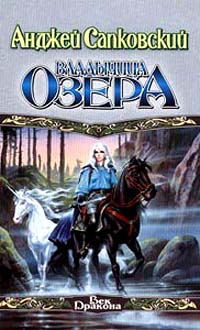Книга Выстрел в Опере - Лада Лузина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Катенька? — отозвался Богров.
— Я и не знала, что она в Киеве.
— Она ваша знакомая?
— Хотите, я вас представлю? — живо отреагировала Ковалева.
— Право, неудобно.
— Удобно, удобно! Катенька моя кузина. Сестра двоюродная. Вы извините, я Митю ненадолго похищу, — расшаркалась расхрабрившаяся Маша перед приютившей Богрова компанией.
Похищаемый поддался без сопротивления. Но сделав пару шагов, затормозил.
— Прошу прощенья. Возможно, у вашей кузины какое-то горе?
Но Ковалева, почти дотащившая Митю до «знака», сочла благоразумным не отвечать.
— Катенька! — воскликнула она. — Какими судьбами?
Катерина Михайловна подняла наполненные чернотою глаза:
— Машеточка… милая.
— Что ты делаешь в Киеве? — как могла беззаботно прочирикала «кузина Машеточка». — Отчего к нам не зашла?
— Я только с поезда. У меня дела здесь, — сказала Катя загробным голосом.
— Позволь представить. Митя. Дмитрий Георгиевич. Мой давнишний приятель. Мы знакомы уже… сколько лет? — нагло вопросила она у Богрова.
— Я и не помню, — сказал тот, глядя на красивую Катю с видом человека, летящего в пропасть.
«Незнакомка» А. Блока протянула руку для поцелуя.
— Очень приятно. Екатерина Михайловна, добра не помнящая, неизвестно зачем на этом свете живущая.
«Чехов. „Чайка“», — подумала студентка.
— Такая женщина, как вы, уж точно должна это знать, — ответил несущийся в бездну.
Совершенство Катиных черт порождало дивное ощущенье абсолютной наполненности этого мига.
Ибо тому, кто глядел в этот миг на нее, казалось: он — как узревший «Мону Лизу» Да Винчи, пирамиды Гизы, грохочущую Ниагару, — уже исполняет сейчас некую важную жизненную миссию.
И Мите казалось так в эту секунду.
«Красота спасет мир. Достоевский, — подумала Маша. — А вдруг Достоевский знал…»
— Вот как? А я вот не знаю! — перекинулась Катя на Настасью Филипповну. — Может, вы мне расскажете?
— Я с превеликим удовольствием, — начал Богров запинаясь. — Но у меня мало времени.
— Вы так спешите? — подняла бровь «Настасья». — Куда же?
— В Купеческий сад.
— Представьте, я тоже, — дернула ртом femme fatale[34]. — Ведь там нынче царь. Я ради него и приехала.
— Вы тоже идете туда? — побледнел Митя. — Какое совпаденье, однако.
— Быть может, вы не откажетесь меня сопровождать? — деспотично приказала красавица — деспотизм героини Достоевского давался Дображанской не хуже, чем таинственность героини Блока.
Богров молчал.
Его зрачки метались, метались и мысли.
«Он идет в Купеческий сад, чтобы убить Столыпина, — расшифровала метания Маша. — Но при Кате ведь его не убьешь. А убьешь, подставишь красивую Катю. Он не может взять ее с собой. И отказаться от нее — не может. Сказать ей сейчас „нет“ — оборвать знакомство…»
— Впрочем, о чем я? Я не имею права просить вас об этом. Я должна быть одна. — Катерина наделила последнее слово трагической решимостью. — Но у нас еще есть время, не так ли? — взглянула она на дамские часики, висевшие у нее на груди в виде броши-медальки. — Вы выпьете со мной чаю?
— Я не могу, — защебетала Маша, изнервничавшаяся от собственной храбрости и мечтающая поскорее ретироваться. — Меня Красавицкий заждался. Ты знаешь его, Катюша, он страх какой вздорный, — указала она на Мира. — Мы с ним сейчас роман «Венера в мехах» обсуждаем, о половой психопатии. Ты придешь к нам сегодня?
— Я дам о себе знать, — сказала Катя так, словно клятвенно пообещала кузине прислать приглашение на свои похороны.
Зачарованный Митя подсел к «Незнакомке».
Знакомая, от которой увела его Маша, махнула ему рукой, зазывая обратно, — он машинально покачал ладонью в ответ, прощаясь.
— Вы милый молодой человек. А ведь одно то, что я пью с вами чай, может погубить вас, — не без садизма сказала Катя.
— Вы зачем-то хотите напугать меня, Екатерина Михайловна? — серьезно спросил он.
— Хочу. Я пугаю вас, потому что я и сама себя пугаю. — Роль Настасьи Филипповны явно пришлась Кате к лицу. И садизм, и мазохизм, и рефлексивное мышление получались отменно (хотя сама Катя всегда недолюбливала героиню романа своей давней юности, погубившую ее любимого героя Льва Мышкина).
— Что же пугает вас, позвольте узнать? — спросил герой другого романа.
— Моя полнейшая бессмысленность. Вот вы хоть раз в жизни задумывались, зачем вы живете? — с вызовом вопросила она.
— Вы думаете об этом?
— А вас, по всей видимости, удивляет, что я способна думать? — припечатала его «Настасья Филипповна». — Или, по-вашему, моя жизнь имеет смысл только оттого, что я красива? Вы ведь это сказать вначале хотели? Думаете, я не догадалась? Все мужчины так помышляют, потому что для вас красивая женщина — вещь. Предмет декораторского искусства. А знаете ли вы, что при этом думает женщина?
— Не имею чести знать, — сказал припечатанный Митя.
— Взгляните-ка на того господина, — показала Катя на Красавицкого, — рядом с моей кузиной. — (Согласно прописанной пьесе, Мирослав «с аппетитом» ел загодя заказанную им и давно остывшую куриную ногу.) — Однажды моя младшая кузина Машеточка сказала трогательным таким голоском: «А тебе не жалко кушать бедную курочку? Ее же убили для того, чтобы мы ее съели». И знаете, Дмитрий Георгиевич, я всю свою жизнь в тот миг поняла. И подумала: «А кто я такая, чтобы жалеть ее? Скорее уж у меня есть весомые причины завидовать ей!» Ведь ее смерть не бессмысленна. Умирая, чтобы накормить нас собой, курица продлевает нашу жизнь. Можно сказать, в своем роде эта безмозглая птица повторяет подвиг Христа.
Митя выпучил глаза.
— Точно так же, — не дала ему «Филипповна» времени заподозрить ее в безумии, — как мы едим эту курицу, верующие по сей день питаются Христовой плотью и кровью. И те, кто осмеливается жалеть Христа по сей день, — убогие, неспособные осознать своего ничтожества люди. Иначе, вспоминая о муках Христа на кресте, они бы оплакивали не его, а себя. Потому что Иисус, вне зависимости от того, был он или нет, — был найсчастливейший человек на земле. Он — единственный знал, зачем он был послан сюда, ради чего жил, за что умер. В то время как нам приходится тратить всю жизнь на поиски смысла жизни. И зачастую — безрезультатно: мучиться, страдать и умирать, все равно умирать, но бессмысленно, зря! Во всяком случае, я могу сказать совершенно точно: не только в сравнении с Христом, даже в сравнении с вон той поедаемой курицей моя жизнь абсолютно никчемна.