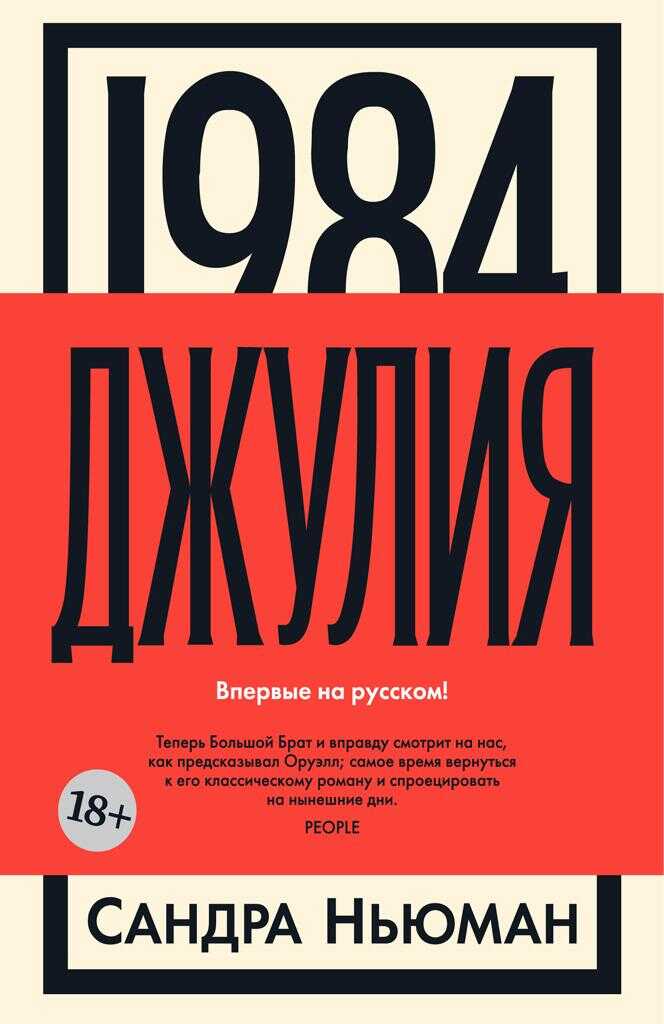Книга Русское: Реверберации - Никита Львович Елисеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я те их счас совсем сверну, – загремел сверху Митяй, он же Берет, прозванный так за свою лихую службу в Афганистане. – Нюх потерял! Стойло свое забыл!.. – заводил себя десантник, и под этими криками, как под ударами бича, Танька потянулся на хозяйский голос.
– Ну хоть сигаретку, – долетел из глубины второго яруса ноющий Танькин полуплач.
– Ладно, будет с ларька, – заурчал Берет.
Засипел натужно кран, выдавливая последние – теперь до вечера – капли воды.
– И че тусуются, че тусуются, черти? – В проход свесил громадную свою башку повторник Пеца, иссиненный до самого горла змеями, свастиками, куполами и всякой иной изобразительной чертовщиной.
– Ну вот скажи ты, хмырь беременный.
Тощий мужичонка со смешно нависающим мешочком живота на черных длинных трусах заискивающе смотрел вверх на Пецу.
– Я, что ли?
– Ты-ты. – Пеца сегодня был настроен благодушно, и мужичонка подхихикнул тихонечко. – Ну чего ты ерзаешь по проходу? – Пеца поманил мужичонку пальцем. – Тебя как звать-то?
– Меня? Меня – Василем звать.
– Киселем, говоришь? Ну так что тебе, Кисель, не сидится? Что ты проход занимаешь, так что человеку по нужде не пройти? А ежели человек, к примеру, пойдет по нужде и за твое кисельное брюхо споткнется? И родишь тут невзначай – так человеку отвечать за тебя, а?
Несколько голосов преданно захохотали.
– И вот чего в толк не возьму, – Пеце явно понравилось рассуждать, и он не хотел остановиться, пока слова так вот гладко выкатывались из-под гибкого языка, – ведь все одно жратву вам, чертилам, последними получать, так что вв-вы… – Он начал злиться, и язык уже деревенел, и слова не выкатывались, а застревали, непроговоренно наполняя рот, и это приводило Пецу в ярость. – А н-ну ч-ч-чтоб и в-в-видно не не не. – Пеца замотал головой, и проход начал освобождаться: потные люди заползали в свои грязные, влажные еще с ночного сна норы. – В-в-шивота! – рявкнул вслед Пеца, мотнув башкой.
– Что ж ты, падло, сигарету захукал? – Над Вадимом нависал Ворона, Воронов – тощий плоский юнец с выпирающими во все стороны костями и всегда подергивающимися длинными руками-ногами. – Я ж тебя по-человечьи спросил, что ж ты, кусочник занюханный, а?
Вадим растерянно держал в горсточке докуренный до обжига губ чинарик.
– Что ты мне тянешь? Нет, мужики, – закипал Ворона праведным гневом, размахивая мослатыми руками. – Я ж его как человека, а он…
– Уймись, Ворона, – бросил сверху Матвеич, – я ему всего пару затяжек оставил.
– Так я ж ничего, Матвеич… Он же мог сказать, что ж он «оставлю, оставлю», а там и оставлять нечего…
Руки Вадима подрагивали, и он медленно собирал себя из растерянной паники, неожиданно разметавшей тихую радость сигареты. Матвеич снова уткнулся в книгу и признательного Вадимова взгляда не видел. Непонятный он человек, лежит почти все время у себя наверху с книгой и изредка только вмешивается в дела камеры; относятся к нему опасливо, стараясь держаться подальше – кум и вся его свора при каждом случае выспрашивают и выпытывают про него, а кому нужны лишние неприятности? Однако слово его в набухающих камерных спорах, вспыхивающих стычках и разгорающихся время от времени выяснениях далеко не самое последнее. Сторонятся его все, хотя и обращаются к нему по самым разным надобностям, а вот он – притом что и не отказывает никому, – точно всех сторонится, и когда даже предлагал ему Пеца авторитетное место, отказался, остался на своей верхотуре; и самое в нем опасное – цепляется с тюремщиками по любому поводу, даже когда и бесполезно совсем: свяжешься с таким – сам не рад будешь.
Вадим и вовсе предпочитал держаться подальше от Матвеича, побаиваясь его едких слов, которые долго потом саднят в груди и трудно выковыриваются, как занозы, – выдавить невозможно и забыть не получается – даром что редкие. Примерно месяц назад, по приходе в эту камеру после суда, начал как-то Вадим вспоминать свою жизнь, доказывая не окружающим даже, а самому себе, что уж он-то – слава богу – пожил, погулял – даже и умирать не обидно было бы: машина, рестораны, девицы, дачи… Его слушали, а Вадим вспоминал и вспоминал, растравливая себя, раскручивал перед грязными и недоразвитыми своими нынешними товарищами красочный калейдоскоп оргий и развлечений, создавая из всей своей прошлой жизни ослепительный фейерверк непрекращающегося праздника; и – закончил, выдохшись в описании очередного ресторанного кутежа, тоскливым охом: «Еще бы недельку хоть… Недельку одну – я бы такой бенц закатил! – потом хоть „стенку“ накручивай, не жалко». Тогда вот в тишине завистливой, в паузе, плотно утрамбованной сожалениями о невозможном, несбыточном, и толкнул голос Матвеича, тихий и даже с ленцой: «И что бы ты устроил за бенц? накрутил еще пару тысяч на спидометр? схавал еще несколько пудов калорийной жратвы? выпил сколько-то там литров разной крепости пойла? трахнул пусть и десяток новеньких – для тебя новеньких – „телок“? И из-за этого к стенке?.. Мера всей жизни – сколько-то там пудов питья, жратвы и не очень чистых тел? Забавно…» И все, и отвернулся снова к книжке своей, и забыл даже, а Вадим сник, будто из него весь воздух выпустили, будто шарик яркий прокололи (он помнил себя маленьким на давней древней демонстрации с голубым шариком в руке, когда какой-то дылда ткнул папироской и вроде в ушах что-то лопнуло – так было больно), – потух Вадим сразу и утянулся в свой проход; только беззвучной злобой клокотало в нем еще долго «а у тебя не пудами измеряется?», «а у тебя пуды чего?», «а ты, а ты…»
Загремела под дверью баландерская телега, и вся камера пришла в движение: спешно натягивались на взмокшие тела пропотевшие тряпки, в отгрохнувшую кормушку дежурный уже принимал пайки хлеба с белоснежным холмиком сахара на каждой. Вадим стоял в незастегнутой рубахе и зорко следил из прохода за разложенными на деревянном столе («общаке») хлебными кусками – вот забрали свой хлеб камерные авторитеты и пристроили на маленьких железных полках на стене («телевизор»), вот они отошли от общака («Матвеич, я твой хлеб убрал, к затраку-то спустишься?» – «Спасибо, Голуба, ты же знаешь, я уху не ем, а после к кипяточку…»), вот дежурный забрал свою пайку и кивнул: «Мужики, ослобоняй общак».
Вадим старался сохранять достоинство и не ломиться, не расталкивать, не пробиваться, но очень уж хотелось завладеть высмотренной издали горбушечкой, тем более что два раза уже приходилось высматривать следующую; но если так деликатно, то опять останется пайка-недомерок. Вадим оттер плечом хлипкого мужичка и ухватил-таки, успел присмотренную, уже обласканную взглядом пайку прикрыть рукой.
Дежурный выставлял миски с ухой; кто-то ему помогал, а