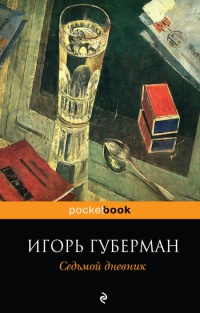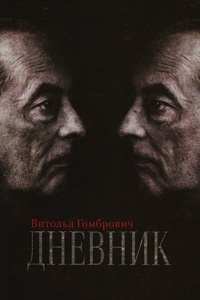Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В детстве я мечтал быть обиженным. Чтобы я мог или наказать, или простить. Но это общее место для возраста. Вспомним “Детство” и “Отрочество” Толстого.
Я жил — в детстве, но я не жил — детством. Пожалуй, оно казалось мне слишком скучным, в отличие от того, что было за его невидимой границей. Детство не радовало, не веселило, оно меня унижало и обижало, и я старался забыть его, еще не расставшись с ним. Я изменял ему — с будущим, которое, наступив, сразу же стало изменять мне.
Владислав Ходасевич
Я по-прежнему уверен: все, что произошло со мной в жизни, — чистая случайность. К какой жизни был готов? Как представлял себе эту жизнь? Стал жить в ней как будто бы внутри приключения, к которому испытывал постоянный интерес, и потому все переживания, страдания уравновешивались этим интересом.
Вот главные города моей жизни. Ереван. Рига. Одесса. Ленинград. Ну, естественно, Москва.
Нет для меня чужих городов, все города — свои.
И вновь и вновь собирать — в поездках — давно не виденные, любимые города, как ищут и собирают — по еще живым адресам — когда-то отосланные письма.
Все-таки Бог дал мне повидать мир. Однажды я даже пил пиво в баре внутри дота, которыми Энвер Ходжа изуродовал Албанию.
Радоваться ли всему этому? Ну, например, тому, что я могу выйти на жаркий балкон номера под бьющимися на ветру флагами разных государств и увидеть сверху авеню Альмейды и памятник ему — Альмейде. Увидеть Лиссабон…
Да! Радоваться!
Я хотел, чтобы в романе — ненаписанном — был другой город, не Ереван. Но запахи его, и свет, и цвет увядающей листвы, — я всё позаимствовал там, на тех улицах и стогнах, в тех дворах — чтоб смешать всё в одном сосуде, в странном вареве воспоминаний.
В этом городе может быть море, хотя оно быть не может.
Запах моря присутствует в любом городе.
Таинственный город… Одни говорили, да, море у нас есть, там, в конце улицы, другие смеялись: какое море, вы что? Но море появлялось тогда, когда было нужно… Кому? Сашке? Морю?
Мне?
Море вообще было самой сильной мечтой моего детства — завистливой — социальной — мечтой, — море Артека, где я никогда не был, и море дачи Берии в Пицунде, где отдыхал тем школьным летом Сандрик Тоидзе и где по берегу несся табун белых лошадей.
Море как перемена жизни, положения в жизни.
Не забывать, что представление о море у меня всегда связывалось с представлением о богатстве, благополучии, нормальной семье.
Ереван — самое сильное впечатление моего детства, следы от которого протянулись по всей жизни.
Манит меня и тоскует до сих пор — во мне — южная кочевая жизнь, гостиница, кулисы театра, актерское глупое и вздорное племя, 49-й год, хинное небо, морская свинка, вытягивающая “счастье”…
Ереван — не просто воспоминание. “Ереван” — некая область моего экзистенциального существования, магическое пространство, куда моя душа возвращается постоянно — наверное, для того, чтобы узнать как можно больше о себе самой.
Роман, собственно, и стал возникать из желания отправить душу в это путешествие.
Сама та жизнь, ее пестрота и краски, ее невиданный вихрь и тон — все это осталось в моем Сашке. Самое сильное, самое главное, что было в его жизни, и то, что сделало его — хоть и забылось, стерлось, выцвело с годами — но сделало его.
Я решил: пусть Борис будет и в романе, как в жизни, Борис.
Мы с мамой собираемся в Ереван.
Отчим Борис уже уехал, он нанялся в Русский драматический театр имени Станиславского. Было еще предложение поехать в театр Дальневосточного флота, в Совгавань. Но он выбрал ереванский театр. Главным режиссером там — знакомый ему вахтанговец, актер и поэт Анатолий Миронович Наль. Не так давно я купил книжку его стихов с предисловием Кузмина, издание “Academia”…
Наль жил в Ереване на горе вместе с женой и дочерью, моей ровесницей. Теперь она поэтесса и жена знаменитого барда. С ереванской поры я видел ее, уже взрослой, только один раз, бесконечно давно — в “Национале”, в компании поэта Володи Файнберга.
Конечно же, не смог удержаться. Попросив прощения у благородной тени Анатолия Мироновича, я решительно преобразил режиссера в ненаписанном романе, дал ему другую фамилию, дал другие имена — да и все другое — жене и дочери. Уж очень они были все мне нужны. И сделал его не вахтанговцем, а таировцем, сбежавшим от разгрома Камерного театра.
Наброски из ненаписанного романа
Мягкое, удлиненное — насмешливо-приветливое — лицо, лысый череп, пересеченный серебрящимися и очень длинными и редкими прядями, прикрывающими череп, обтянутый розовой — с бледно-коричневыми пятнышками неправильной формы — кожицей. Мешочки щек, с нежной склеротической инкрустацией, тоненькие, как жилки просвеченного солнцем листика, бледно-красные сосудики, похожие на крошечные японские деревца. Белые мягкие узкие руки, перстень с черным агатом — с пламенем, поэтому он особенно ценен, — на пальце.
Такой изысканный, эстетствующий — в этом провинциальном, довольно-таки затхлом театре. Где, кстати, в некоторых ситуациях он ведет себя абсолютно как советский режиссер-чиновник. Зато дома…
Странной была не только его фамилия — для Сашки странным было все в его доме: ликеры, трубка, конфеты в золотых обертках и обязательный кофе в крошечных красных чашечках. И жена, бывшая танцовщица с маленькой и очень коротко стриженной головкой, высокая, худая, ходившая по квартире босиком. В память об Айседоре, у которой она могла учиться? Сашка глаз не мог оторвать от ее босых стоп и краснел, как пойманный на месте воришка. Она это замечала, усмехаясь.
Странными были картинки на стенах — с узкими вытянутыми женщинами и — густо обведенными черным — мужчинами в котелках. Странным было и приглушенно вспоминаемое прошлое в таировском театре. И настоящее — в провинциальном, — где он ставил Вадима Собко и Островского.
Мы ехали с мамой вроде бы на такое достаточно увеселительное мероприятие. Там прекрасно: фрукты, воздух, другая школа. Там будет вообще замечательно.
Скоро оказалось, что там вовсе не так замечательно.
Наброски из ненаписанного романа
Когда в финале Сашка будет сбегать из города — из этого своего Эльсинора, — он не узнает ту местность, которую он не так уж и давно проезжал вместе с мамой, — потому что он теперь другой, потому что прошла огромная жизнь, и местность изменилась так же, как изменился он, как изменился мир, как изменилось его представление о мире. Если дорога туда — это живые и доброжелательные пространства: степь, море, горы, то есть некоторые сущности мира, природы, то дорога обратно — это серые города цементного цвета, угрюмо и равнодушно дымящие вдали гигантские заводы, темные, низкие сырые села…