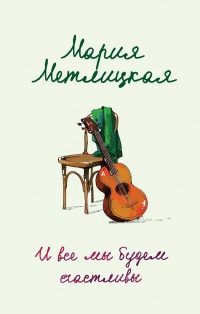Книга В тот год я выучил английский - Жан-Франсуа Дюваль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кембридж обладал для меня качествами лабиринта, мне бы хотелось, чтобы этот маленький городок никогда не стерся ни в моей памяти, ни в памяти Мэйбилин, так как мы получали огромное удовольствие ориентироваться и разбираться, мерить по этой шкале нашу изобретательность, способность соединять по кусочкам мозаику, без конца набирать опыт, чтобы в порыве игры сказать: «Oh yes, here it is»[76]или «Oh no! We had better go this way…»[77]— а затем мы, смеясь, разворачивались, ничуть не жалея о наших ошибках, и возвращались. В центре города мы ходили пешком, оставляя велосипеды, пристегнув их в крытой галерее около рыночной площади. Город оставался таким же нетронутым и сбивал нас с пути, но мы были вдвоем, что очень сильно сближало, так как в глубине души мы понимали, что, если пойти не той дорогой, мы сможем вместе посмеяться над промахами, благодаря которым мы убеждались, что способны сделать праздник даже из мелких поражений. Мы достаточно потрудились, чтобы отыскать галерею Всех Святых, улочку, где, как мы прочли на доске объявлений рыночной площади, должна была проходить выставка сюрреалистов. На афише была напечатана картина Магритта[78]: человек, стоящий спиной, видит в зеркале только свою спину. Мы напрасно спрашивали у прохожих, как пройти, мы блуждали, переходя от одной улочки к другой, точнее, от одного названия к другому. Даже если следующая улица являлась продолжением предыдущей, каждый раз, когда мы проходили одну из них, создавалось впечатление, что мы преодолеваем невидимый порог и начинаем новую главу с другим названием. Улицы открывали город абзац за абзацем, вы внезапно ощущали невероятную свободу, как будто простое название могло изменить ход событий, оно по-своему вас приветствовало всякий раз, когда вы проходили мимо. Так получилось, что слово «мрачный», которое Мэйбилин употребила не больше двух или трех раз в отношении меня, родилось у нее на губах перед одной картиной, которую мы отыскали между полотен Дали и Магритта. Странная картина с сумеречной атмосферой выставлялась вместе с Дельво[79]в одном из залов в подвале. Возможно, что именно я произнес это слово перед полотном, на котором был изображен преждевременно постаревший ребенок со слишком большой головой, эта картина, сам не знаю почему, выражала всю мировую скорбь. Дитя находилось на берегу озера вместе с людьми в купальных костюмах, это, без сомнения, были его родители. Да, возможно, что здесь я впервые употребил это французское слово, в дальнейшем обернувшееся против меня, когда я меньше всего этого ожидал и просто задумался, она вопросительно произнесла: «Ты мрачный? Признайся, что ты мрачный». В этом не было упрека, а только непонимание, как я могу быть мрачным в некоторые минуты, которые такими совсем не являются, но с которыми мой простой образ жизни — все мое существование — резко противоречило. Мы направились к выходу с приятным ощущением отступления, испытываемым всякий раз, когда выходишь с выставки или из музея. Уходить всегда легко и приятно, даже если вы все еще восхищаетесь, говорите, что вам понравилось, вы все равно чувствуете огромное облегчение, когда оказываетесь на свежем воздухе среди похожих на вас живых людей. Уже минуту спустя галерея Всех Святых заняла свое место в мозаике, которую Кембридж согласился сложить вместе с нами.
Как-то днем мы ехали на велосипедах, на Мэйбилин была юбка цвета морской волны и ярко-желтый шерстяной свитер, мы остановились на обочине дороги перед Королевским колледжем, чтобы подождать Симона и Барбару. Она спустила ногу на землю, и я увидел, как у нее дрогнула мышца на левом бедре: она вытянула ногу. Полусидя на велосипеде, она повернулась, и мне понравилось, как изогнулась ее талия. Наши взгляды радостно встретились, и я сказал: «Я вижу себя в твоих глазах». И на самом деле, благодаря освещению и нашему расположению, я четко различал в ее зрачках свое отражение, и в нем я был более живым, чем когда-либо, проявлялся в ней сильнее, чем если бы вошел в нее. Она смущенно рассмеялась. Может быть, Мэйбилин предчувствовала мое невольное проникновение, которое она восприняла как желание. Мэйбилин была молода, а юные девушки не всегда понимают, что порой они словно бесконечно отражающее зеркало. Я был полностью в ней, был узником ее глаз, я напоминал парусник, который моряк хитроумно вставил в бутылку.
Я хотел бы сказать об особой дистанции между нами, которая все время менялась, она была живая, определялась заново всякий раз, как мы встречались. Мы никогда не знали, до какой грани она нас доведет, на каком именно расстоянии мы находились друг от друга. Наши отношения развивались, улучшались смехом и взглядами, поведением и жестами, и самым главным качеством, на мой взгляд, была именно эта неуловимая геометрия. В этой дистанции мы выделялись, становились видимыми, вся особенность была в том, что каждый из нас видел правоту в другом. Даже когда мы были вместе, она подчеркивала все, что нас разделяло. Мы понимали: без этой дистанции у нас не может быть правильного взгляда, но в то же время именно наш взгляд создавал ее, эту дистанцию, придававшую остроту зрению.
Когда в другой раз мы остановились на том же месте, чтобы снова подождать Симона и Барбару, in front of King’s College[80], так как это было наше излюбленное место встречи, она протянула руку и указательным пальцем коснулась моего профиля, провела вниз ото лба к носу и сказала, что любит резкий угол, который вырисовывается в этом месте.
— У тебя нос, как у араба, — постановила она.
А я сказал, что с тем же успехом он может быть и еврейским.
Она засмеялась, и я подумал, что люблю ее глаза, когда она смеется. Этот смех рождался на пустом месте или почти на пустом, только от радости, что нам так легко договориться. И из всех этих пустяков мы по кусочкам собирали что-то хрупкое, что зарождалось между нами.
В час дня мы снова встретились в «Критерионе», забились вдвоем в глубину паба, сели на скамейку, проверенную временем, покрытую потертой, изношенной пыльной тканью, уставшей от бесконечных историй, криков, возгласов и ругательств. Когда зал опустел, я предложил: «Let’s move»[81], мы повернулись к входу, где в баре еще оставалось несколько человек, но Мэйбилин отказалась уходить, сказав: «Let’s stay here»[82]. Она была немного напугана — это был первый раз, когда я пригласил ее в «Критерион»: в те времена молодой девушке было неприлично находиться в подобных заведениях. Я конечно же ей сказал: «Don’t be ridiculous[83], даже Гарри приходил сюда со своей мамой, когда она приезжала». Я представил, как идеальный Гарри своим высоким, сильным, уверенным голосом (думаю, что у него редко проявлялись проблески сомнений) заказывал маме пиво, как он приводил ее в «Критерион», словно во дворец, и его мать, очарованная и счастливая, долго затем вспоминала, как взрослый сын пригласил ее в паб, словно на экскурсию: на стене висели отправляющиеся на псовую охоту всадники в красно-черных одеждах, их обгоняла свора лающих и визжащих собак, которых едва сдерживали рамки картины.