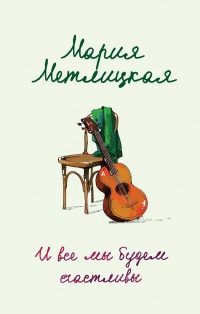Книга В тот год я выучил английский - Жан-Франсуа Дюваль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несколько раз, еще до знакомства с Мэйбилин, я в одиночестве ужинал здесь вечером, когда солнце омывало каменные фасады. Я рассматривал зубчатые края колледжей, их вершины, часовни, словно детскими ножницами вырезанные из нового времени. Я думал о новой встрече с Мэйбилин, о том, что вся наша история связана волшебством этого места и, возможно, только с ним, что я снова увижу ее на нашем месте и она улыбнется, завидев меня, ее глаза будут сиять от того, что, может быть, она меня любит, и тогда во мне открывался огромный мир, а крыша этого артистического кафе убеждала меня, что здесь невозможно умереть.
Мэйбилин должна была увидеться с одной очень старой дамой. Она обещала своей семье, и эта женщина ждала ее прихода. Я проводил ее на велосипеде до маленького домика, похожего на все домики из красного кирпича на этой улице и в этом квартале. Она позвонила в дверь. Никого. Закрытая дверь. Сидя на краю тротуара, я написал вместо Мэйбилин записочку, что мы приходили, но, к сожалению, никого не было дома, и мы не знаем, сможем ли прийти снова. Мэйбилин боялась, что не сможем, так как она скоро уезжала. Это я и написал. Затем мы поехали ко мне, поднялись в мою комнату.
Теперь ее чулки с подвязками поднимались до трусиков, я никогда такого не видел, разве только в кино. «Tout other girls» носили колготки с тех пор, как их изобрели в 1964 году. В 1968-м девушка с подвязками на бедрах была исключительной редкостью. Подвязки имели значение несколько веков назад, это был аксессуар прошлого. Я никогда не видел их на настоящей девушке, так как они не были частью сексуальной революции, ни единой подвязки не было в песнях «Роллинг стоунз», Боба Дилана, Джона Мэйола — даже Барбарелла, героиня комиксов Фореста, их не носила. В это время совершенно забыли о подвязках. Я был настолько удивлен, что ничего не сказал Мэйбилин и, скорее всего, правильно сделал. Я думаю, что малейшее замечание эта семнадцатилетняя девушка могла понять неправильно. Я только смотрел, а она поймала мой взгляд на себе, на ее бедрах.
На следующий день миссис Джерман, которой я принес цветы в благодарность за все, так как я скоро уезжал, мы все скоро уезжали, принесла нам в комнату поднос с чаем, кексами и клубникой. И когда я закрыл дверь, сказав миссис Джерман: «How nice of you, Mrs Jarman»[155], она прошептала мне на ухо: «She looks so sweet, will she forget you?»[156]Я снова сел на кровать около голубых джинсов Levi’s и ярко-желтого свитера. Мэйбилин расставляла чашки на блюдца, чайные ложечки позвякивали. Она наливала чай. Мы сидели на кровати, так как не было другого места, кроме стоящего около эркера неудобного кресла, оно годилось для того, чтобы хранить ночью мои джинсы. Но как мы могли уместиться там вдвоем, ведь нужно было еще куда-то поставить поднос с чаем? Нам было много лучше на кровати, как и подносу. Быть на кровати — куда более естественно. В какой-то момент мы лежали рядом друг с другом, и я запустил руку под ее свитер и блузку — у нее была очень нежная, мягкая кожа, — я ласково провел руками от бедер к груди, затем большим пальцем по пупку. Я никогда не касался такого широкого живота, без сомнения, это было оттого, что я очень медленно его исследовал, он наполовину был скрыт свитером, а с другой стороны молнией джинсов. Я его не видел, а только чувствовал ее плоский живот под моими пальцами, прикасался, ласкал его как можно нежнее, он приподнимался, как линия горизонта, где, наподобие Христофора Колумба, я не переставал блуждать, не зная всего его истинного охвата, которое он занимал во времени и пространстве. И тогда я возвращался назад, к паху, к точке отсчета, я изменил курс и скользил по другому берегу, и он был таким же: последний берег, последние границы невидимого живота, который трепетал и казался вне досягаемости. Это был обычный живот, живот Мэйбилин, женщины. Просто я никогда еще не касался ее живота.
Это было забавно, после всех пинт темного пива, виски, шерри, которые мы выпили, мы все стояли неподвижно в желтом свете, где нужно было сказать good bye, мы попрощались, и каждый знал, что мы больше никогда не увидимся.
Мы ждали Гарри в маленьком тупике, даже Майк был здесь по одной из тех случайностей, которые он держал в секрете, это напоминало конец ужасно грустного фильма. Мы все вместе стояли на тротуаре, но каждый чувствовал в эти оставшиеся дни себя одиноким и далеким. Музыка — Джон Мэйол? — доходила до нас из глубины паба, приглушенный, неописуемый блюз усилился, когда дверь открылась. Мне показалось, что огромный Гарри был пьян, как никогда, правда, он держался лучше, чем обычно, он принес внезапно ощущение отъезда, его фигура напоминала статую Командора — было ли это от избытка алкоголя, который переполнял наши глаза, а может, в этот момент это было правдой? Возможно, и то и другое сразу, плачущая статуя Командора, означающая, что роман должен закончиться.
Симон, Барбара, Майк, Элен, Тина растворялись во мраке, быстро удалялись, возвращались в темноту, еще были слышны слова, срывающиеся с их губ, но они уже ничего не значили и одновременно выражали все. Не останется ни одной фотографии, ни одной записи, каждый должен вернуться, как все мы вернулись в нашу другую жизнь, из которой мы ускользнули на несколько месяцев. Когда Майк пел у Тэсс песню про ворона, когда мы с Барбарой вдвоем сидели в кресле Корбюзье, когда мы с Мэйбилин обменивались взглядами, улыбками и когда она нежно проводила кулачками по ребрам, прежде чем обнять меня за шею и подарить мне свои губы.
Yes ту friend, yes ту friend[157].
Мы с Мэйбилин расстались в аэропорту Хитроу, она очень торопилась, так как опаздывала на регистрацию, наш поцелуй был очень коротким. Мы трижды созвонились. И больше ничего. Это было лето 1968-го. Мэйбилин была в Испании. Меня забрали в армию. «Битлз» пели «Неу Jude», песню, которой никогда не придет конец.
А может, все было по-другому
Мы с Мэйбилин расстались в аэропорту Хитроу, она очень торопилась, так как опаздывала на регистрацию, наш поцелуй был очень коротким. Мы созванивались много раз, вели долгие непостижимые и безнадежные разговоры. Мэйбилин встретилась с Францем. Он ей объяснил, что за границей «мы всегда немного другие», что я и она, мы были в Кембридже «другими людьми». Она не хотела этому верить. Я тем более. Там, в Кембридже, мы были самими собой, какими не будем уже никогда. Я приехал в ее страну на выходные, чтобы доказать, что ничего не изменилось, что мы навсегда останемся Крисом и Мэйбилин. Но были уже другими. Мы попытались рассмеяться. The Far East… Мефистофель… Но через мгновение Мэйбилин плакала, ее волосы касались моей щеки, а слезы текли мне за шиворот. Магия Кембриджа была потеряна, она испарилась, она нам изменила в начале июня, где-то между Стейшн-роуд и аэропортом Хитроу. Теперь Мэйбилин уже не так хорошо понимала, любила ли она меня или Франца или она любила нас обоих. Она больше ни в чем не была уверена, за исключением гадкого дьявольского перелома, произошедшего в ней. Маленькое волшебство места, такого же голубого, как небо Кембриджа, нас покинуло. Наша любовь, эта хитрюга, предпочла остаться навечно на берегах Кэма, в артистическом кафе, недалеко от Мэдингли, чтобы продолжить сладко носиться в воздухе, и это тоже было прекрасно. За год до того, как Армстронг ступил на Луну, я едва начал жить. О Боже, я жил по-настоящему.