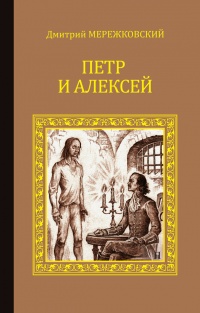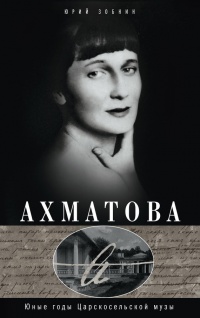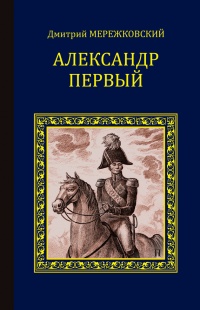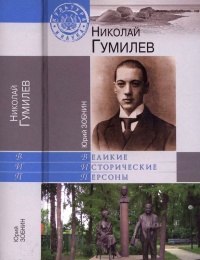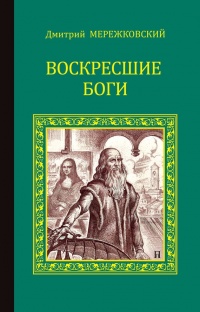Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Церковь – тело Христово, но, может быть, оно сейчас в гробу, как до воскресения, во время сошествия Господа в ад. А мир – между двумя кругами ада: только что вышел из верхнего – первой всемирной войны и сходит в нижний – вторую войну. Здесь-то, в аду, может быть, он и будет спасен Сошедшим в ад».
* * *
14 декабря 1935 года в Париже прошел торжественный банкет, посвященный 70-летию Мережковского. Присутствовал весь цвет русской эмиграции во главе с нобелевским лауреатом Буниным, председатель французского Союза писателей Гастон Раже, академик А. Бордо и министр народного просвещения Франции М. Рустан (последний объявил о представлении Мережковского к награждению орденом Почетного легиона; эти благие намерения, впрочем, не получили дальнейшего продолжения). Как русские, так и французские газеты откликнулись на событие рядом «юбилейных» статей. Однако настроение в это время у нашего героя было отнюдь не «юбилейное».
В начале 1930-х годов материальное положение Мережковских ухудшается. В письмах этого времени он с тревогой пишет о непомерной плате за квартиру, о налогах, которые виснут «веревкой на шее». Жизнь во Франции дорожала – сказывался начинающийся мировой экономический кризис. Помимо того, «русская тема», бывшая в предшествующее десятилетие одной из «больных» тем в европейском обществе, постепенно отступает на второй план.
В 1931 году начинаются перебои с выплатой пенсий, установленных русским писателям-эмигрантам чешским президентом Т. Масариком («чехи отняли последние гроши», – прокомментировал этот печальный факт наш герой в письме А. В. Амфитеатрову). Оставалось рассчитывать на гонорары за книги, но эмигрантские книгоиздательства не баловали своих авторов, а популярность Мережковского во Франции заметно снижается. Нет, конечно, он не испытывает той нужды, которая преследовала многих его «братьев по изгнанию», но и уверенности в завтрашнем дне – блаженства, о котором он тщетно будет мечтать всю жизнь, – тоже не было. Надежды на Нобелевскую премию, как уже говорилось, также себя не оправдали.
Эмиграция, осознавшая историческую «бесперспективность» своего бытия и не надеясь уже на возвращение в Россию, начинает относиться к «идеализму» Мережковского с растущим раздражением. «Нет сейчас русского писателя более одинокого, чем Мережковский, – писал некогда Г. В. Адамович, один из самых тонких литературных критиков русского зарубежья, – и не было, кажется, никогда одиночества, в котором читательская лень играла бы большую роль. Правда, не столько умственная лень, сколько моральная. Мережковского почти „замолчали“, потому что о нем нельзя говорить, не касаясь самых основных, самых жгучих и „проклятых“ вопросов земного бытия. А кому теперь охота этих вопросов касаться?» В 1930-е годы правота этих слов Адамовича стала очевидно наглядной.
Заседания «Зеленой лампы», прежде собиравшие «весь Париж», теперь еле-еле набирают четверть зала, везде царят уныние и растерянность, и «высокая» проблематика этих дискуссий плохо вяжется с постоянной для подавляющего большинства эмигрантов тревогой за «хлеб насущный» и за свой «завтрашний день». В конце концов «Зеленая лампа» опять сливается с «воскресеньями», ибо круг участников обоих форумов становится одним и тем же. Поэт Борис Поплавский (вскоре он трагически погибнет от передозировки наркотика) печально шутил:
– Три восточных мага приехали на квартиру Дмитрия Сергеевича и завели с ним беседу. «Что есть первая истина?» – осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту истину. «Что есть вторая истина?» – продолжали допытываться мудрецы. И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство. «А куда идут деньги с вечеров „Зеленой лампы“?» – спросили в третий раз маги. Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.
«Тридцатые годы – эпоха американской депрессии, мирового экономического кризиса, восхождения Гитлера, абиссинской войны, испанской войны, „культа личности“ в Советском Союзе, разоружения одних и вооружения – других, – писала Нина Берберова, вспоминая о тогдашнем положении русской эмиграции. – Страшное время в Европе, отчаянное время, подлое время. Кричи – не кричи, никто не ответит, не отзовется, что-то покатилось и катится. Не теперь, но уже тогда было ясно, что эпоха не только грозная, но и безумная, что люди не только осуждены, но и обречены. Но… что было миру до нас, Акакиев Акакиевичей вселенной? Тише воды, ниже травы… Мы затурканы, мы забиты, подданства нам не дают, в будущей войне пошлют в окопы. Мы чувствуем себя так, как будто во всем виноваты и несем ответственность за то, что творится: за восхождение Гитлера, за культ личности…»
6 мая 1932 года происходит событие, потрясшее парижские эмигрантские круги: русский литератор Павел Горгулов, писавший под псевдонимом Павел Бред, сумасшедший монархист, мечтавший о славе Герострата, убивает французского президента Поля Думера. Горгулов был казнен, а отношение французов к эмигрантам резко меняется. Ходят панические слухи о возможных погромах, политических репрессиях. Жить в Париже становится не только «накладно», но и «неуютно».
– Я понимаю французов, – говорил непременный участник собраний у Мережковских, писатель А. П. Ладинский. – Как мы им всем на-до-ели. Боже, как они устали нас терпеть! Да я бы на их месте давно выгнал бы всех эмигрантов на Сандвичевы острова, со всеми нашими претензиями на безработное пособие, на бесплатное обучение детей, на стариковскую пенсию. Вот будет война…
Он многозначительно умолкал.
На этом достаточно безрадостном фоне в жизни нашего героя этой поры ярко выделяется поездка в мае 1932 года на десять дней во Флоренцию, куда его приглашает флорентийское отделение общества «Alta Cultura» и клуб Леонардо да Винчи для чтения лекций о великом художнике. Автора «Христа и Антихриста» итальянцы встречают не просто радушно – восторженно. Вновь перед Мережковским – переполненные залы, неподдельный интерес, внимание прессы – все, от чего он уже успел отвыкнуть во Франции.
В 1934 году Мережковский снова получает приглашение посетить Италию – на этот раз от самого Бенито Муссолини. 4 декабря 1934 года он имел личную аудиенцию у «дуче», в ходе которой тот предложил Мережковскому субсидию от итальянского правительства для работы над книгой о Данте, а также – свое содействие по устроению Мережковских в Италии на время работы.
Мережковский предложение Муссолини принял, но предупредил, что осуществить это он сможет только через год: неотложные издательские дела удерживают его во Франции. Муссолини не возражал, и Мережковский, окрыленный удачей, возвращается в Париж, где, в преддверии новой большой работы, торопится с завершением биографических очерков о Франциске Ассизском и Жанне д'Арк. Победа коалиции левых сил Франции на выборах весной 1936 года ускоряет отъезд: Мережковский начинает всерьез опасаться второго коммунистического переворота – уже во Франции.
Все относительно «благополучные» двадцатые годы он – устно и письменно – предрекал слабость европейских демократий перед натиском коммунистического «экспорта революции». И вот теперь его пророчества как будто начинают сбываться. «Был в Ницце – „День рус. Культуры“, – записывал Бунин в дневнике 14 апреля 1936 года. – Постыдное убожество. Когда уезжал ‹…› за казино (в Ницце) огромная толпа… Все честь-честью, как у нас когда-то – плакаты, красные флаги, митинги. В Grass'e тоже „праздник“. Над нашим „Бельведером“, на городской площадке, тоже толпа, мальчишки, бляди, молодые хулиганы, „Марсельеза“ и „Интернационал“, на бархатных красных флагах (один из которых держали мальчик и девочка лет по 6, по 7) – серп и молот. ‹…› Надо серьезно думать бежать отсюда. Видел в Ницце Зайцевых. ‹…› Грустные, подавленные тем, что происходит в Париже. Душевно чувствую себя особенно тяжело. Все одно к одному!»