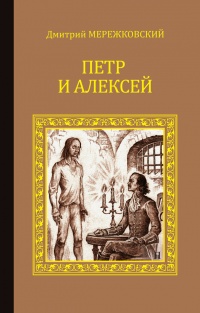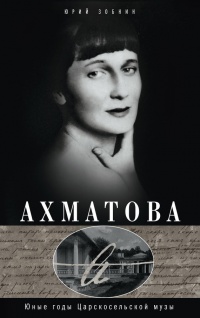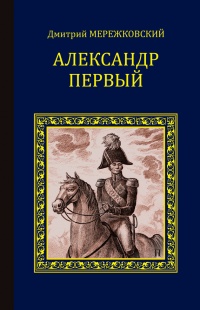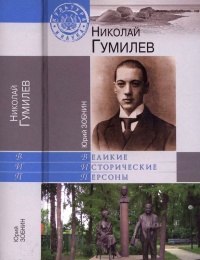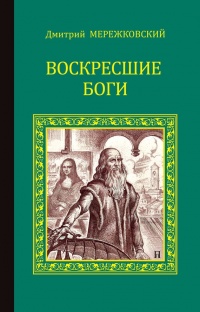Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Исторические аналогии при создании «Павла» были неизбежны и очевидны. И никакого подлинного выхода автор «Павла» и «Августина» не видел, кроме как, закрыв глаза и заткнув уши, «бежать из ада», не помнить, забыть все, что происходит в «новом Риме» – в России, в Москве. «Понимая» (хотя, конечно, как и все нормальные люди, с трудом) «страх» мученичества, Мережковский «не понял» (точнее – «не смог понять») «стыд» мученичества: он «сломался» при малейшем соприкосновении с ним, от одного лишь «помысла» о чем-то подобном. «Послание митрополита Сергия есть вопль сердца Православной Церкви в России, обращенный к Православной Церкви за рубежом: сделайте, наконец, что-нибудь для нас, для Церкви-Матери, подумайте о нас, облегчите нашу муку, принесите для Русской Церкви хоть какую-нибудь жертву», – писал Бердяев и бил прямо в сердце Мережковскому (и не ему одному).
«А что же Церковь, разве не спасала и не спасает мир? В этом вопросе – наша смертная боль, такая рана, что к ней прикасаться, о ней говорить почти нельзя».
Лютерова идея «Невидимой Церкви»,[38] действительно намеченная в финале «Павла» и продолженная в «Августине» (и, разумеется, очень сильно звучащая в последующей трилогии о «Реформаторах»), была для Мережковского тем более трудна, что она противоречила его собственным взглядам на природу «церковности», как на нечто очень, говоря его словами, «хлебное, чревное, плотяное, кровное». Эта «православная закваска» все время сохраняется в нем на каком-то инстинктивном и иррациональном уровне, даже когда он хочет избавиться от нее. Для того чтобы убедиться в этом, стоит прочесть хотя бы сцену первого «протестантского» богослужения Кальвина во второй книге «Реформаторов»:
«Первую Тайную Вечерю по обычаю Апостольских времен Кальвин совершил в пещере Св. Бенедикта (St Benoit), близ города Пуатье (Poitiers). В эту пещеру над рекою Клэн (Clain) братья входили сквозь узкую между скалами щель. Главная радость и главный ужас (радость для них сочеталась с ужасом), радость главная для них была в том, что все в этом Таинстве было так просто, буднично, бедно и голо: ни икон, ни свечей, ни ладана, ни торжественных гулов органа, ни сладкозвучного пения, ни золотых священнических риз, ни золотых церковнических сосудов – ничего прошлого, бывшего в Римской Церкви – „Царстве Антихриста“, откуда бежали они. Все знакомое, домашнее: вместо жертвенника – длинный, простой, некрашеный сосновый стол, какой можно видеть в каждой харчевне; вместо чаши – мутного зеленого стекла граненый стакан с трещиной на ножке – едва, должно быть, не разбился в мешке брата, который нес его и, услышав в кустах шорох, побежал, думая, что за ним гонятся сыщики или диаволы; красное вино в бутылке, купленной в ближайшем сельском кабачке; ситный каравай хлеба, купленный в ближайшей лавочке. Все обыкновенное, такое же, как везде, всегда, – и вдруг совсем иное, необычайное, на земле невозможное, как с того света в этот перешедшее, – ужасное. Чувствовали все, и больше всех Кальвин, что никогда и нигде не было того, что будет здесь, сейчас.
Если бы своды пещеры на него внезапно обрушились, они раздавили бы его не большей тяжестью, чем бремя той ответственности, которая должна была пасть на него в этот миг, когда он произнесет эти для человека невозможные, неимоверные слова:
Руки у него дрожали так, что уронить боялся чашу с вином – Кровью, пальцы ослабели так, что едва мог преломить хлеб – Тело».
Вообще, Кальвин с его здравым смыслом, примитивной, чувственной грубостью и прямодушием, деятельным прагматизмом, в том числе и в религиозных вопросах, по-человечески ближе Мережковскому, чем «серафический» мечтатель Лютер, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Отсюда и весьма рискованное с точки зрения «классической» истории религии противопоставление: «Лютер отказался от видимой Вселенской Церкви, Кальвин ее утвердил».
«Мережковский очень пугает ортодоксальных православных своей новой религией Третьего Завета. Но, в сущности, он стоит на той же ортодоксально-догматической почве, что и [Сергий] Булгаков, что и свящ. П. Флоренский и многие другие, – тонко замечал Н. А. Бердяев. – ‹…› Он решительный и крайний материалист, и своим художественно выраженным религиозным материализмом он даже повлиял на современных православных, которые настаивают на святой плоти не менее, чем „неохристиане“».
Интересно, что в 1930-е годы Мережковский с энтузиазмом поддерживал идеи экуменического движения в протестантизме, очевидно, надеясь, что «духовные» протестантскиеконфессии, соединившись с католическим церковным «материализмом», создадут в итоге некий искомый «церковный синтез» (о православии он в это время старается не думать). В 1937 году Мережковский будет горячо приветствовать Эдинбургскую экуменическую конференцию, собравшую 120 христианских конфессий (преимущественно протестантских). Как пишет во вступлении к «Лютеру» Т. Пахмусс, «The Conference on Faith and Order в Эдинбурге в 1937 году служила явным доказательством для Мережковского, что собравшиеся там участники сорока племен и ста двадцати христианских вероисповеданий положили начало Вселенскому Собору, Будущей Церкви Трех – Отца, Сына и Св. Духа». Однако представителей Ватикана на этом «Вселенском соборе» не было, и Мережковский, открывая свое жизнеописание Лютера, выразил по этому поводу глубокое сожаление.
В общем, можно сказать, что теоретические размышления о возможности «новой, единой, Невидимой Церкви», которая могла бы заменить «неподъемную» для Мережковского в историческом контексте конца 1920-1930-х годов «Видимую Церковь» (то есть, если говорить без обиняков, «сергиевскую» Московскую патриархию), не давали Мережковскому никакой жизненной опоры в грозной действительности «мирного промежутка» между завершившейся, но еще памятной Первой, и неотвратимо надвигавшейся Второй мировыми войнами.[39] И поэтому далеко не случайной кажется потрясающая по своей мрачной «лирической» безнадежности оговорка в финале «Атлантиды – Европы»: