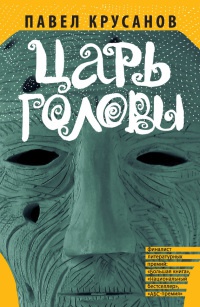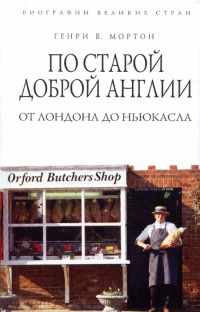Книга О людях и ангелах (сборник) - Павел Крусанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У Одихмантия был злой язык, однако это не мешало ему с готовностью приходить на помощь другим, притом что сам он редко кого-либо утруждал просьбой о помощи. За плечами его тянулась во мглу прошлого длинная жизнь, полная затаившихся в сумраке событий и не всем уже доступных впечатлений. В молодости он с альпенштоком штурмовал горы, покушаясь даже на семитысячники, погружался в точную науку, извлекая оттуда учёные степени, ходил под парусом на шверботе, два с лишним десятка полевых сезонов отколесил в качестве начальника археологической экспедиции по таёжной глуши, казахской степи, Алтаю и изрезанному ущельями Памиру, сочинял либретто для оперетт, бил в степи байбаков, нагулявших под кожей драгоценный целебный жир, писал в журналы о художественной фотографии и чёрт знает чем ещё ни занимался. При этом все мы чувствовали, что сведения наши о нём неполны, что, несмотря на кажущуюся исчерпанность его рассказов, в тени всегда остаётся что-то ещё, чего мы об Одихмантии не знаем. Иначе мы бы просто посмеялись над подозрениями о его нечеловеческой природе, а мы не смеялись. Даже задумывались: не из четвёртого ли он мира дна? Или, может быть, из второго – покрышки? Задумывались и листали атлас с картинками населяющих эти области тварей.
Идея составить такой атлас принадлежала нам с Нестором. Дело в том, что многие сетевые дневниковеды проскальзывали в волновое пространство Сети из верхних и нижних миров, о чём свидетельствовали аватарки перед их никами. Время от времени различные истории об этих существах просачивались также на волшебный экран и даже анонсировались в экранном бюллетене. Примерно следующим образом:
– Бека, завладев дневником безумного персеида, вызывается показать унадшам путь к тайной столице мира Тарн-Ведра.
– Асгардам удаётся заманить репликаторов в ловушку и запереть в помещении с устройством, замедляющим время.
Или так:
– Учёные мира Пангар создают лекарство от всех болезней. Матрана выясняет, что чудодейственное зелье производят из симбиотов.
– Ночные кошмары замучили Тикулка до такой степени, что он стал путать сон с явью и жить в двух реальностях. В первой он – отважный пожарник, а во второй – зелёный чотомит.
Ну вот мы с Нестором и провели работу: выудили из бюллетеней и Сети все доступные сведения о живности, обитающей в мирах дна и покрышки, разложили их по полочкам и, как смогли, проиллюстрировали. А живности там было пруд пруди, одна другой краше. Больше всего Одихмантий походил на гугулаха из мира Твин, только у него не было на черепе бугристых складок и за ушами не росли кожистые трубки. Словом, вопрос оставался открытым.
Помнится, Кант в «Естественной истории неба» писал: «Кто осмелился бы дать ответ на вопрос: распространяет ли грех свою власть на другие сферы мироздания, или там царит одна только добродетель? Не принадлежит ли наша несчастная способность впадать в грех к некой области между мудростью и безрассудством? Кто знает, вдруг обитатели иного мира не настолько благородны и мудры, чтобы быть снисходительными к неразумию, вовлекающему в грех, слишком прочно привязаны к материи и обладают слишком малыми возможностями духа, чтобы суметь нести ответственность за свои поступки перед высшим судом справедливости?» Вот голова! Вот сумрачный германский гений! Не хуже нашего Брахмана. Как прав он был в своих догадках – что ни слово, то в яблочко.
Основной пружиной, двигавшей Одихмантия по жизни и нёсшей ответственность за логику его поступков, являлось, пожалуй, стремление к душевному комфорту, что вовсе не равно тяге к покою. Одихмантий не хотел покоя, он был деятелен и самостоятелен в своих действиях. Он жаждал приключений. В нашей стае он чувствовал себя комфортно, и за это свидетельство здоровья нашей среды мы были патриарху благодарны. Кроме того, Одихмантия при всей его самодостаточности определённо тянуло к Князю. Я уже говорил, что Князь был удачлив, Одихмантий же, по всей видимости, полагал, что везение – штука заразная. Нечего и говорить, всяк был бы не прочь подцепить эту завидную бациллу.
* * *
Мать-Ольха была с нами и вместе с тем словно бы немного в стороне, несколько отдельно, незримо оградив своё заветное духотрепещущее тело прозрачным буферным пузырём. Трудно описать это – с виду, казалось бы, никак не выраженное – положение. Тем более что снаружи, извне никто бы и вовсе ничего не заметил – почувствовать условность её присутствия в стае мог лишь член стаи. Чтобы пояснить сказанное, следует два слова посвятить обрядовой стороне нашей жизни.
Мы склоняли голову перед баней. Мы чтили её. Воспоминание о ней приводило нас в священный трепет. Потому что баня – это не просто место, где трут мочалкой спину и мешают в шайке воду. Нет. Существо бани – мистерия, символический путь могучего духа нашей земли, который в историческом времени виток за витком, точно бегущий огонёк по ёлочной гирлянде, упорно идёт дорогой Феникса к своей Вифлеемской звезде. Раз в две недели мы отправлялись в баню и проживали эту мистерию сообща, стаей, умирая и воскресая вместе с духом нашей земли. Сначала мыли и сушили парную, потом проветривали, поливали из ковша стены, затем давали жару и снова остужали и лишь после этого, метнув на раскалённые камни черпаком воды, люто, так, чтобы при вдохе горели ноздри и ныли зубы, поддавали пару и выгоняли первый пот. Затем в два веника и в три захода, чередуя пламя преисподней с ледяной купелью, немилосердно выгоняли душу вон, бережно загоняли обратно и, кто гладко-красный, кто леопардово-пятнистый, восставали из пекла к новой жизни. Там, в бане, клубилось и пульсировало иное пространство, там Князь и Брахман были смиренны, а Рыбак – мистагог. Только Мать-Ольха не ходила с нами в баню, потому что она наш женский брат.
Мать-Ольха всегда была широка душой, крута нравом и богата телом, а вот говорить с деревьями научилась уже на моей памяти. Поначалу, гуляя в садах и скверах, она останавливалась и слушала листву, её лёгкий трепет или волной нарастающий на ветру шум. Зимой прикладывала ухо к коре и, стянув перчатку, стучала по звонкому стволу рукой, трогала мёрзлые ветки, отзывающиеся шелестящим бряцанием. А однажды весной, в апреле, когда после оттепели вдруг снова ударил запоздалый мороз, она позвала меня в Комарово и показала берёзу, у которой из зарубки пошёл сок, но загустел на холоде и замер чередой наплывов, как какой-нибудь каменный пещерный водопад, только здесь было чуднее – прозрачный, застывший, ледяной водопад берёзового сока. «Смотри, это музыка, – сказала Мать-Ольха. – Слышишь?» И я увидел эту стылую, покатую, вспыхивающую хрустально-матовыми бликами лесную музыку. Я её увидел, а Мать-Ольха, похоже, её и впрямь слышала. Мы отломили по сосульке и сунули в рот берёзовые леденцы. Я запомнил тот день, полный весенних лесных запахов и застывшей музыки со студёным детским вкусом.
Потом Мать-Ольха устроила у себя дома настоящий дендрариум: на подоконниках в горшках ловили заоконный свет миниатюрные баобабы, денежные деревья, бегонии и прочая мелкая экзотика, а по углам и вдоль стен стояли кадки с гигантами (в масштабе городского жилища) под потолок. Что-то у неё там то и дело вегетативно размножалось, то и дело прорастали какие-то семена – словом, был при дендрариуме и свой детский сад. О чём вещали ей деревья, что рассказывала им Мать-Ольха – не знаю. Однако любовь их определённо была взаимной: однажды у неё в гостях я увидел, как некое древо – с виду фикус, но я не знаток, – отчётливо сложив тугие ласты, поймало случайно оброненную Матерью-Ольхой фарфоровую чашку кузнецовского завода. Поймало и не отпустило: до пола чашка не долетела – так и осталась качаться, зажатая в мясистых, окроплённых чаем зелёных лапах.