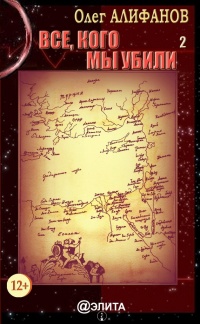Книга Все, кого мы убили. Книга 1 - Олег Алифанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я знал, что он подумает – и справедливо. Что я завидую ему, ибо он находился где-то у порога разрешения задачи, которую отыскал сам, я же не приблизился к разгадке того, что мне навязали. Мы оба чувствовали, как трудно найти свою пустоту.
Смерть Бларамберга подействовала на меня отрезвляюще и вновь заставила погрузиться в работу. До тех пор, пока я не обжёгся о простой вопрос: чьи руки сейчас держат жуткий камень, чьи глаза впиваются в заклятье, пытаясь прозреть его чудовищную суть? Хорошо, если заброшен или отправлен в подвал, плохо, если утерян или отдан кому-то. Верно пред лицом бренности ставит вопросы Ермолаев: неважно, что нашёл, важно, где оно сейчас? А что, если некто из многочисленных охотников за скрижалью отравил Ивана Павловича и завладел ею? Но тогда заговорщик был опытным и крайне опасным человеком, чтобы представить медленное убийство смертью от болезни для многочисленных друзей. А мог ли сей предполагаемый заговорщик, коих в моём окружении вообще-то хватало с излишком, почерпнуть нужные ему сведения из наших с Бларамбергом эпистол? Андрей уже опасался таких чтецов, не стоило ли и мне, столкнувшись с необъяснимыми событиями, сразу навострить уши? Я не без труда отыскал нашу с Иваном Павловичем переписку. Для стороннего наблюдателя она, конечно, представляла мало проку, но для опытного искателя открывала всё: не только местонахождение камня, но и наше неведение относительно его зловредной ценности. То есть он мог не опасаться свершать своё чёрное дело с медленной неотвратимостью.
Писать в музей сразу я не стал, оправдывая себя тем, что никаких доказательств гибели Бларамберга от начертанных на камне символов у меня нет. Но совесть не давала мне покоя при мысли о том, что случайный посетитель может чрезмерно заинтересоваться тайным шифром на камне, выставленном в витрине музея. Неразрешимостью загадка стала терзать мою душу не меньше всех прочих. После всё же отправил я в музей невинный запрос, что стало с сим предметом, объясняя это лишь заботой о своём пожертвовании.
Мы не спеша путешествовали, и места библейские одаривали нас благодатями без обмана.
Беседы с Ермолаевым продолжались, иногда верхом, и на привалах мы проводили с ним часы за обсуждением деяний тайных обществ. Я из уважения поведал ему всё, что знал о хазарах и их письменной истории, но оба мы понимали, что не можем уловить главного в розысках князя Голицына.
Недавно ещё одинокими томительными вечерами мечтал я, как прольётся в гостиной её звонкий смех от моих загодя приготовленных картинок здешней жизни, как весело мы станем танцевать под нестройные звуки левантийских музыкантов, и как округлятся её глаза при рассказах о разбойниках и кладах. Вместо этого мне казалось, что общество из меня одного тяготит её однообразием, а красноречию моему не хватает остроумного соперничества Артамонова. Всё реже являлся я к ужину, а и явившись находил её предпочитающую очередной французский роман.
Едва ли не всё вокруг – события, люди, обстоятельства – меня злило: и то, что я вынужден скрывать свои мотивы, и то, что другие таят от меня нечто, а мне нечего им противопоставить. Казалось мне, что все интригуют вокруг меня, знакомые лица опротивели мне своей настоящей или фальшивой вежливостью, уж предпочёл бы я решительно объясниться, даже пред лицом ссоры, да объясниться и с одной Анной не умел. Отношения с ней и вовсе разладились, став приторными до отвращения. Всегда щедро расточаемые ею светлые улыбки кому-то другому, теперь приводили меня в исступление, а цветущий вид приписывал я последствиям тайной переписки с неведомым далёким возлюбленным.
Переписки! Но она сносилась и со своим отцом, письма которого, возможно, могли пролить капли света тому, кто умеет читать. Не знаю и сам, завесу над какой из сотни тайн его, или собственных её сердечных терзаний жаждал я приподнять, когда однажды, не выдержав, подступил к ней с расспросами. Поначалу она нехотя отвечала, что ничего не знает о судьбе исследований Бларамберга, а отец её прервал свои, похоже, надолго.
На неделю я удовлетворился ответом, но, дав ей день на отдых по возвращении с горы Фавор, вновь постучал к ней. Она встретила меня приглашением разделить с ней кофе и отложила чтение, кажется, только что распечатанного письма. Испросив разрешения, я закурил трубку, оставаясь в дверях. На всём этаже большого дома мы оставались вдвоём, и один этот факт мог бы подвигнуть меня к объяснению, если бы давно я не расстался с мыслью просить её руки прежде чем не удостоверюсь наверное в её ответном согласии. Увы, не любовь её ныне тревожила меня – лишь согласие, которое может являть следствие слишком большого множества прочих причин. Даже просьбы дать время на раздумье, весьма приличествующее девушке её положения, я по своей гордыне не смог бы вынести.
– Что ответил вам отец на известие, что тетрадь его у меня хранится? – спросил я наугад, зная лишь то, что она отправляла повторно письмо после предательства дворецкого.
Моё хмурое выражение и нервозный вид не могли расположить её к общению, но, увы, слишком редко последние недели я выглядел весёлым. Она встала мне навстречу и предложила сесть, но я остался стоять, и она тоже.
– Ничего.
– Совсем ничего? Вы убеждены, что он понял, о какой тетради вели вы речь?
– Совершенно убеждена. Он выразил лишь радость, что у меня нет ничего из того, что может таить угрозу. Вы обижены на то, что у отца имеется по сию пору предвзятое к вам отношение?
– Меня не может не тревожить моя репутация в его глазах. Особенно если она ухудшается день ото дня. Что-нибудь замечательное с родины? – кивнул я на пакет.
– Владимир Андреевич снова работает с отцом, – потупив взор ответила Анна, помедлив.
– Надеюсь, отец ваш внял моему предостережению… Однако прошу разрешения откланяться.
Сухим тоном, подчёркнутой вежливостью и чрезвычайно кратким визитом, который, возможно, желала бы она продлить, я, кажется, вызвал крайнее её изумление. Поворачиваясь, я заметил, как губы её округлились, словно желала молвить она нечто, но ничто не могло остановить меня в поспешной ретираде. Луч надежды, мелькнувший некогда в осаждаемой Акке, не пробивался более сквозь пыль моих бесчисленных мелочных сомнений. Или ей нужна тревога, чтобы сделать моё присутствие нужным… Или опасность нужна мне, чтобы стать смелее не только с врагами, но и с ней самой…
Я обнаружил себя стоящим посреди крохотной площади, и знакомые торговцы как-то странно глазели на меня. У неё нет ничего из того, что может таить угрозу! Проклятье! Беду для Анны могут нести не только охотящиеся за ней злодеи – опасна может быть и сама тетрадь, какие-то её отдельные страницы!
Сколько простоял я так с самым потерянным видом, глядя сквозь предметы и не отвечая на приветствия, я даже не мог потом вспомнить.
Я бросился в свою каморку и сломал печать. (Таким образом заодно и долгожданный повод, позволивший мне сохранить и даже приумножить своё достоинство в собственных глазах был найден – я ведь спасал любимую.) Лихорадочно листал – и вот она – тщательно срисованная копия моей, то есть его скрижали. Князь был уверен, что дочь не нарушит обещания не читать её, но возможный похититель обречён, увидев внутри нечто запретное от века. К счастью, метод, которым копировались письмена, отличался от моего, и знаки казались мне искажёнными. Но откуда мог знать я, что погрешности сии обесценивали их дьявольскую суть? Я перевернул лист, будто закрываясь от скверны… и на другой странице упёрся взглядом в ещё одну копию – без сомнения, другого камня. Я листал ещё и ещё – шесть таблиц несла в себе проклятая тетрадь!