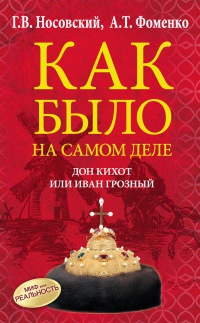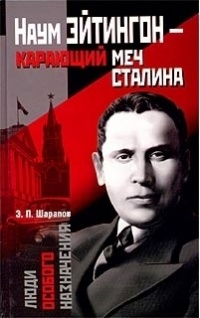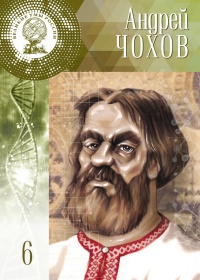Книга Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Единственная трудность, по ее мнению, заключалась в том, что еврейский театр планировал специализироваться в музыке и драме, с которой она не очень знакома. Еврейская аудитория, как и немецкая, предпочитает оперы, из драматургии — современные пьесы и классиков, например Шекспира. Но и Ассоциация, и Хинкель требуют более отчетливого этнического содержания. Народная музыка. Еврейская культура. Пьесы о Палестине. Еврейская опера, если таковая вообще существует.
Авива писала:
Что любой из нас знает об этом?
Последний раз я была в синагоге ребенком, ходили классом, вроде урока истории или что-то в этом роде. Большинство этих так называемых евреев не говорят на идише и не способны найти Иерусалим на карте. В труппе нашего театра есть знатоки Вагнера, Бетховена, Брюкнера, а нас просят ставить пьесы о големах и петь публике, требующей «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Шалом алейхем». Мы вынуждены приглашать более образованных еврейских музыкантов из других стран руководить нами. Они предлагают занятия по овладению интонациями идиша и иврита, для того чтобы немецкие актеры исполняли свои роли более достоверно. Понимаешь, почему я тебе говорю, что беспокоиться не о чем? В ваших газетах пишут, что евреи бегут из Берлина, и ничего о том, что они перебираются из Дании и Палестины и, вполне возможно, из Испании, в Берлин, где еврейская культура процветает.
Соперничество в Еврейской культурной ассоциации было так велико, а лояльность настолько хрупкой, что Авива не осмеливалась даже на время уволиться с работы. Вряд ли там будут дожидаться, когда она решит вернуться. С февраля вся почта, проходящая через Германию, стала подвергаться цензуре, именно тогда нацисты подожгли собственный Рейхстаг и арестовали всех до единого депутатов-коммунистов. Возможно, Авива и посылала письма в феврале, но до меня они не дошли.
Плакаты, ставшие такими привычными на улицах Испании в апреле 1931 года, изменили свой облик. У красотки La Niña Bonita, что восхищала всю Барселону, из-под шляпки «колокол» исчезли розовые лучи, олицетворявшие когда-то надежду, пропали щеки и даже нежные карие глаза. Ее, вдруг позеленевшую, с массивными губами, тяжелым подбородком, выпуклым адамовым яблоком и мускулистыми предплечьями, нарисовали в той же манере, в какой коммунисты изображали на своих плакатах рабочих и солдат, призывающих: «КРЕСТЬЯНИН! РЕВОЛЮЦИИ НУЖНЫ ТВОИ УСИЛИЯ» или «ТЫ! ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ?». Всего за один месяц она стала каменным изваянием с пустыми глазницами, напоминающим, что сейчас не время для человеколюбия, для индивидуальности. Важны только цели и их символы.
В 1933 году стартовали Bienio Negro — два черных года. Резкая перемена настроений избирателей в пользу правых позволила врагам республики отменить реформы последних двух лет. Им этого оказалось недостаточно. Повсюду шли разговоры о развале, о необходимости силы, о тайных заговорах и необходимости железной руки. Молодые испанцы с завистью рассматривали в газетах фото из Италии и Германии; они не помнили 1921 или 1914 года, не говоря уже о событиях 1898 года, знаменовавшего конец эры подлинного могущества и гордости Испании. Под дождем со снегом они выстраивались в колонны по двадцать тысяч человек, желая кричать: «Фюрер!» или «Дуче!», но у них не было еще такого испанского слова и не было единственного харизматичного лидера. Они довольствовались пока криком: «Jefe! Jefe! Jefe!» — «Вождь! Вождь! Вождь!», надеясь, что ветер донесет их заклинание до любого человека, который выступит вперед и поведет их к счастью.
Пикассо видел Испанию страной матадоров, пикадоров и бандерильеро. Такой же видел ее Хемингуэй, но это была не моя страна, не моя Каталония. И все же арена для боя быков дважды запечатлелась в моей памяти, словно обрамляя год, который выдался более кровавым, чем коррида.
Мои наиболее яркие воспоминания о нем состоят в основном из картин: голый ребенок, бегущий за отъезжающим грузовиком; сложенные пополам полосатые матрацы, расстеленные на обочине дороги, и ноги, торчащие между складками. Или вот это: полдень, городская площадь, женщина в вечернем платье, но почему-то в домашних тапочках, рядом с ней — жизнерадостный спаниель. И вдруг женщину срезает пуля снайпера. Она падает, прижимая к бедру сумочку, на лице удивление, медленно сменяющееся ужасом, — нет, она не просто поскользнулась. Я смотрю на происходящее с другой стороны площади и вижу, как два новых выстрела кладут конец ее мучениям. Только собака, как обезумевшая, носится вокруг.
Сколько их было, подобных сцен — десятки, сотни… Чудовищные картины, разворачивавшиеся перед глазами без единого звука.
Но я нарушил последовательность своего рассказа, чего обещал не делать. Трудно хранить объективность, повествуя о годах гражданской войны. Но сейчас я вернусь к бою быков, потому что именно с него для меня началась война и им же закончилась.
Аль-Серрас пригласил меня на весеннюю ярмарку в Малаге, кульминацией которой стала коррида, победителю которой донья де Лароча намеревалась вручить особый приз. Стоял июнь 1936 года. За последние два года мы с пианистом виделись всего несколько раз. Покончив с концертной деятельностью, он редко покидал юг, а я большую часть времени проводил в столице и на севере.
Но мы регулярно обменивались письмами, особенно после 1933 года, когда в последний раз получили весточку от Авивы. Как когда-то нас вновь связало ее появление в нашей жизни, так сейчас объединяло ее отсутствие. Мы оба беспокоились о ней. И наивно полагали, что обстановка в Европе скоро улучшится и жизнь потечет по-прежнему.
Я тогда квартировал в Мериде — слишком далеко от Малаги, чтобы тащиться туда ради боя быков. Но мне требовалось обсудить с Аль-Серрасом один важный вопрос, интересовавший руководителей партии, с которыми я в эти последние дни республики поддерживал контакт.
И вот мы с Аль-Серрасом любовались быком, который стоял в тени огромного дуба, помахивая длинным хвостом.
— Донья годами не видится с собственными детьми, — сказал мой друг, — но хотя бы раз в день приходит взглянуть на это животное. Знал бы ты, на какие жертвы она пошла, чтобы сохранить ему жизнь! — Бык посмотрел на нас, и Аль-Серрас содрогнулся. Донья старалась прятать быка от посторонних, пока он не наберется сил для боя на арене. Но отгонять любопытных становилось все труднее.
— Они что, хотят с ним сразиться?
— Сразиться? — Он засмеялся. — Они хотят его съесть. Ты видишь под этим деревом опасного зверя, а крестьяне видят пятьсот килограммов говядины. Некоторые из них не ели мяса все пять лет, что растет этот бык.
— Пять лет, — кивнул я. — Значит, бык родился нашей первой республиканской весной.
— Как время летит! — печально выдохнул Аль-Серрас. — Он может и умереть вместе с республикой, если новости, которые до нас доходят, правдивы.
На последних выборах в феврале произошла очередная смена власти, которая после двух «черных лет» от правых перешла к левым, и те хоть и с опозданием, но все же создали Народный фронт. Правым не помогли все их огромные ресурсы, затраченные на пропагандистскую кампанию, в ходе которой было напечатано десять тысяч плакатов и пятьдесят миллионов листовок. Но мои товарищи по партии не торопились праздновать победу. Мы знали, что, говоря языком корриды, раненый бык особо опасен, и матадору не стоит поворачиваться к нему спиной. Именно поэтому я и приехал поговорить с Аль-Серрасом.