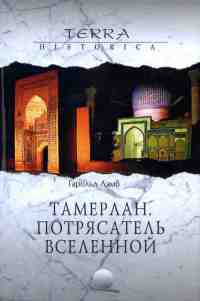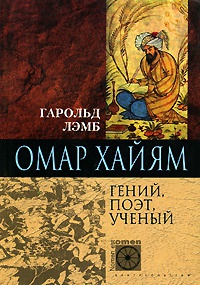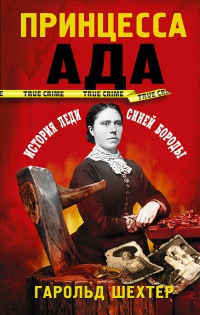Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Хаджи-Мурат» — величайшее исключение из правил позднего творчества Толстого: тут старый шаман соперничает с Шекспиром. Толстой хитро усвоил выдающуюся способность Шекспира наделять даже самых незначительных персонажей буйством бытия, до отказа набивать их жизнью. В «Хаджи-Мурате» живо индивидуализирован каждый: Шамиль; царь Николай; Авдеев, несчастный русский солдат, убитый в стычке; князь Воронцов, которому сдается Хаджи-Мурат; ротный командир Полторацкий; малочисленное верное окружение Хаджи-Мурата: Элдар, Гамзало, Хан-Магома и Ханефи. Список кажется бесконечным, как в какой-нибудь из главных пьес Шекспира. Есть еще старший Воронцов, главнокомандующий русской армией, его адъютант Лорис-Меликов, приставленный к Хаджи-Мурату, и Бутлер, героический офицер, способный оценить качества аварского вождя. Также блистают убедительностью две женщины, которым в повести уделено столько внимания: княгиня Марья Васильевна, жена младшего Воронцова, и Марья Дмитриевна, любовница одного из штаб-офицеров.
Все эти четырнадцать персонажей и еще дюжина третьестепенных очерчены с шекспировскими точностью и задором, создавая контекст, «усиливающий» Хаджи-Мурата, которого мы в конце концов узнаем, как знаем великих воинов Шекспира: Отелло, Антония, Кориолана и бастарда Фоконбриджа из «Короля Иоанна». Более того, Хаджи-Мурата мы узнаем основательнее, чем можем узнать Анну Каренину, которая слишком близка к Толстому. Для разнообразия, подобно Шекспиру, Толстой говорит не совсем своим голосом и играет великую роль Хаджи-Мурата, естественного человека, представленного эпическим героем.
Исторический Хаджи-Мурат и таков, и не таков, как у Толстого. В описании Д. Баддели аварский герой, возможно, даже отчаяннее и храбрее, но куда менее человечен. Аварец из Дагестана, горной страны, Хаджи-Мурат сначала воевал с мюридами, представителями массового мусульманского религиозного течения, которые разожгли шестидесятилетнюю войну между русскими и аварцами. У Баддели летопись свершений Хаджи-Мурата, будучи всего лишь изложением фактов, читается, как фантастический роман. Убив имама Гамзат-бека, вождя мюридов, наш герой присоединился к русским; через некоторое время он был предан вождем аварцев и оговорен перед русскими как сторонник Шамиля, нового имама. Спасаясь от русских, Хаджи-Мурат прыгнул со скалы, выжил и перешел к мюридам; благодаря своим способностям он вскоре стал правой рукой Шамиля. Слава героя, великолепного и в набегах, и в открытых боях, в свое время вызвала зависть Шамиля, который приговорил своего лучшего солдата к смерти, руководствуясь соображениями династического наследования. Хаджи-Мурату не оставалось ничего, кроме как снова переметнуться к русским, что он и делает в завязке повести Толстого. При всем старании не искажать фактов Толстой поверил Хаджи-Мурату на слово и не позволил ни единой тени честолюбия или жестокости примешаться к режущему глаз свету славы своего героя.
Повесть Толстого начинается с краткого пролога, в котором рассказчик, возвращаясь с прогулки, с большим трудом срывает «чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется „татарином“». Уже этот репей неявно знаменует собою Хаджи-Мурата: «Какая, однако, энергия и сила жизни… Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». Каждый раз, когда я читаю этот пролог, я изумляюсь тому, что самоочевидная символичность репья не кажется мне художественным изъяном. Но затем я думаю о том, что в «Хаджи-Мурате» все по-хорошему очевидно. Во всей повести нет ни одного неожиданного события или непредвиденного поворота; более того, Толстой нередко заранее дает нам знать обо всем, что будет дальше. Эта техника достигает вершины дестабилизации нарратива, когда мы видим отрубленную голову героя перед подробным описанием последнего боя Хаджи-Мурата. Толстой как будто предполагает, что нам вся эта история известна, — и при этом воздерживается от размышлений о ее смыслах; он не выводит из нее никакой морали и не заводит никаких споров. Насколько можно судить, значение тут имеет не действие и не пафос, а исключительно этос героя, раскрытие нам характера Хаджи-Мурата.
Несмотря на свою проницательность и храбрость, герой изначально обречен: он загнан в ловушку между двумя злобными деспотами — Шамилем и царем Николаем. Его судьба тем самым предопределена; русские не доверятся ему настолько, чтобы дать возглавить восстание против Шамиля, и все же он должен попытаться спасти свою семью, взятую имамом в заложники. Поэтому он тоже, как и Толстой с читателем, знает, как должна закончиться его история, как должна закончиться всякая история, касающаяся удела эпического героя. Но Хаджи-Мурат — не Дантов Улисс и не какой бы то ни было другой эпический герой, заточенный в запоздало морализированной вселенной. Он — шекспировского толка протагонист, и в самой глубине его этоса лежит способность ко внутренней перемене, усиленная противостоянием тому, что должно его уничтожить; так Антоний наконец «очеловечивается», когда его оставляет бог Геркулес. Рассказывая историю Хаджи-Мурата, Толстой так зачаровывается искусством рассказчика, что освобождается от толстовских доктрин, меняя их на чистоту искусства и его практики.
В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат, закутанный в башлык и бурку, в сопровождении одного своего мюрида Элдара въезжает в чеченский аул в пятнадцати верстах от русских позиций. Там он должен дожидаться известий — примут ли русские его, бежавшего от имама Шамиля, которого, по Баддели, повсюду сопровождал палач с топором. Аура, создаваемая первыми абзацами толстовского повествования, помогает нам поверить в то, что, как я подозреваю, больше всего восхищало в «Хаджи-Мурате» Витгенштейна: в трагического героя, который одновременно вызывает и нейтрализует в нас скептицизм по отношению к правдивости трагедии.
В хорошем исследовании Лоры Куинни «Мрачность истины» витгенштейновское диалектическое отношение к трагическому мироощущению применяется к доктору Джонсону и Шелли. Витгенштейн, зачарованный Толстым и Достоевским (при всей их противоположности друг другу), похоже, нашел в обоих что-то от своего амбивалентного отношения к трагедии. Шекспир беспокоил Витгенштейна, который, кажется, боялся создателя «Гамлета» и «Короля Лира» почти так же сильно, как Толстой. Если вы скептически относитесь к трагедии и в то же время жаждете ее, как невольно жаждали Толстой и Витгенштейн, то Шекспир будет представлять для вас величайшую проблему: вас будет уязвлять то обстоятельство, что трагедия, видимо, давалась ему так же легко, как комедия и сказка. Толстой главным образом не мог простить происходящего в «Короле Лире», и не исключено, что «Хаджи-Мурат», при всем своем бессознательном шекспирианстве, есть критика того, как трагический герой Шекспира высвобождает неведомые человеку силы. Хаджи-Мурат, который должен оставаться собою, храбрейшим из аварцев, спастись не может — но он не борется с даймоническими силами и не вызывает их. Он трагичен лишь потому, что героичен и «природен» — и при этом не имеет шансов на победу. Тут вспоминается Горький, его разговор с Толстым — поразительный тем, что в ту самую минуту Толстой, возможно, работал над финалом «Хаджи-Мурата»:
Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.