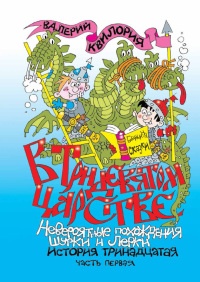Книга Три куля черных сухарей - Михаил Макарович Колосов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да… Отца. Забыл его лицо, хотел найти фотографию. Сохранилась?
— Есть, — мать открыла нижний ящик старого шифоньера, достала оттуда пачку бумаг, перетянутую бельевой резинкой, развязала, стала перебирать пожелтевшие карточки. — А эту вот рази тебе не хочется посмотреть? Это какой класс?
Гурин взял карточку, всмотрелся в давние лица, некоторые с трудом ожили.
— Восьмой…
Свет, падавший в чулан, кто-то неожиданно заслонил, Гурин оглянулся и увидел на пороге крестную.
— Вы че это в чулане схоронились? Сухари перебираете нешто? — пошутила Ульяна и засмеялась добродушно.
— Не, не сушим, — сказала мать. — Все одно на всю жизнь не напасешься.
— А я нет-нет да и иссушу какой завалящий кусочек, да и брошу в чувал — нехай лежит, он есть не просит.
— Отца вот вспомнил… Посмотреть хочет… Карточку шукаем.
— Отца… — погрустнела Ульяна. — Я вот тоже уже не помню его, какой он был… Встретился б на улице — не узнала, ей-богу.
Гурин разглядывал школьную фотографию, улыбался чему-то.
— Шо там? — спросила мать.
— Так… Розу Александровну вспомнил. Красивая была!
— Твоя любовь, — напомнила мать. — Чуть из-за нее с учителем не подрался.
— Это из-за этой заразы? — удивилась Ульяна. — О, она тут давала жизни при немцах, штоб ей пусто было. — И рассказала: — Ото ж, как пришли немцы, она сразу стала переводчицей в комендатуре. Форму немецкую надела. Красивая была, ничего не скажешь. Ездила с комендантом в тарантасе. В пилоточке, в хренчике… Юбочка узкая, коротенькая, коленками все светила. С немцами и уехала. Она ж сама немка, так што ж тут… Они ей свои были.
— А Александр Федорович Куц?
— А Куц… как ушел в первые дни на войну, так и не вернулся. Слух прошел, будто погиб.
— Н-да… Дела… — ухмыльнулся Гурин. — А это вот Жек Сорокин, мы дружили с ним. Война в первый же день развела нас по разным дорогам. Как он?
— А я рази не писала тебе? — спросила мать. — В прошлом году схоронили. Выпивал с каким-то мужиком, заспорили, задрались, а тот и ударь Жеку бутылкой по голове… Сутки помучился в больнице, и все. Две девочки остались…
— Жаль. Талантливый был парень… — Гурин закусил губу, ему сделалось не по себе от услышанного — будто он был чем-то виноват в Жекиной трагедии. Он догадался: мать нарочно не написала ему об этом, знала, что это его расстроит.
— Вот тебе и талан! — подхватила Ульяна решительно. — Талано́м тоже надо уметь распоряжаться. А шо толку, если талан дураку достался? Так и спился со своей гармошкой, срамно смотреть уже было на него, как побирушка стал. Ей-богу, мне дак и не жалко его…
— Нашла, — перебила мать Ульяну. — Отца нашла. Гляди…
Гурин взял фотографию. Со снимка на него смотрели совсем чужие глаза молодого мужчины. Гурин долго вглядывался в отца, искал сходства с собой и не находил. Спросил:
— Разве он носил усы?
— Носил, как же… Только не такие, как теперь, а маленькие, аккуратненькие.
— Забыл совсем его лицо.
— Подольше погляди — вспомнится, оживет в памяти.
— А кепка его?.. Помните, я донашивал?..
— Цела, — быстро сказала мать и достала из того же ящика целлофановый мешочек. — Храню, как же.
Взял Гурин кепку — она! Растянул ее на кулаках, встряхнул и стал примерять.
— Тесновата.
— Перерос отца… Да ты ж теперь уже и старше его лет на двадцать?
— Я возьму ее? — попросил Гурин.
— Носить будешь?
— На память.
Мать долго молчала, потом сказала:
— Выбросите ведь вы ее… Поваляется, поваляется — и выбросите… Тут она целее будет. А? — Она стала снова увязывать фотографии, засмотрелась на мужа: — Отцову карточку надо б переснять, увеличить, да все руки не доходят. Раньше фотографы ходили по домам, предлагали, а теперь не ходют, самой надо ехать аж в город.
Гурин держал в руках отцовскую кепку, а в душе его звучала, нарастая, песня:
Марш, марш впере-од.
Рабочий народ!..
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Недавно я снова оказался в родных краях. Было жаркое сухое лето. Если здесь даже в нормальные годы уже в июле трава хрустит под ногами, как яичная скорлупа, то теперь август и вовсе был похож на осень: на огороде все пожухло. Грядки с луком пожелтели, листья на клене мелки и обвислы, а тень под ними, как под рыболовной сетью. В саду под деревьями земля усыпана сморщенными недозрелыми сливами. Скворцы уже большими стаями шныряли по садам, склевывали случайно оставшиеся на верхушках деревьев спекшиеся вишни. Разморенные воробьи, распушив перья, дремали в дорожной пыли. Лишь изредка какой из них пошевеливался, вытягивая затекшую лапку или крыло.
Жарко. Все накалено, от всего пышет зноем — от стен, от черепицы, от земли. На Карпову крышу опустился голубь с раскрытым клювом и тут же юркнул в голубятню — в тень, в Прохладу.
У матери все двери настежь: погреб, сарай, летняя кухня — все раскрыто. Только в комнату из сеней дверь завешена одеялом. Ставни же, наоборот, еще с ночи не открывались, и от этого в комнатах стоит приятная прохлада.
У Карпа во дворе ни души, видать, жара всех поразогнала по прохладным закуткам. В конуре, положив на лапы мохнатую голову, спит сердитый песик Серко. Его Карпо принес домой из посадки — выследил там, гнездо какой-то одичавшей суки в лисьей норе и выкрал у нее щенков — одного себе оставил, а другого своему свату отдал. Я тогда укорял Карпо: зачем он это сделал? Пусть бы было, как было: гляди, и появились бы у нас длинношерстные маленькие серенькие зверьки — дикие собачки Серко. В ответ Карпо только усмехнулся и сказал: «Не… Их бы все одно кто-нибудь либо поймал, либо убил. Народу у нас тут дужа густо».
Заслышав мои шаги, Серко продрал сквозь нависшие брови глаза, взглянул на меня и тут же сонно смежил их — то ли поленился встать и облаять, то ли признал во мне своего. Я прошел в сенцы — тут, как и у матери, двери на все четыре стороны настежь: в комнату, в чулан, в сарай. Везде гулял приятный сквознячок. Я невольно бросил взгляд в чулан — там было совершенно пусто и необычно чисто: стены побелены, пол подметен. Только в дальнем углу, где когда-то стоял куль с сухарями, на ряднине лежала куча яблок. Не поверив глазам своим, я сунул голову в дверь, обшарил все углы — куля не было. «Как же так? В другое место, наверно, перенесли,