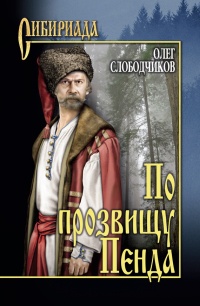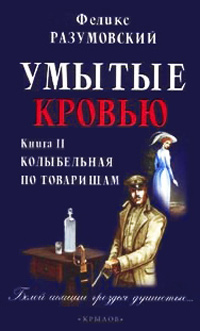Книга Надсада - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Гены, наверное», — думал он сейчас, без интереса выхватывая глазами проносящиеся за окном вагона привычные картины центральной части России и прикидывая в уме, когда подъезжать к Уралу и когда, наконец, откроются желанные сердцу картины поначалу Западной, а потом и Восточной Сибири.
«Гены…» — убеждался, пытаясь заглянуть в самое нутро самого себя. Гены — это прежде всего отец, Данила Афанасьевич, его большая любовь к матери Николая — Евдокии, к покойному брату Степану, его родовая память об ушедших поколениях Беловых.
Да, только отец и никто более собирал вкруг себя их всех, даже брата Владимира, притягивал, ставил на свое место в той генелаогической упряжи, которая уходила в глубь сошедших в мир иной поколений беловского рода.
За все почти четверо суток дороги Николай ни разу не прилег на свободную полку, а спал тут же, сидя за вагонным столиком, положив голову на руки. И этого ему доставало для отдыха — так велико было желание поскорее приехать.
На вокзале небольшого районного центра Николая встречали отец и мать, помогая принять багаж, который он подавал прямо через открытое окно вагона.
Но что особенно было приятно, так это видеть здесь же вечного Ивана Евсеевича Воробьева, или попросту — Воробья, которому было уже, наверное, за девяносто, но живости у старика не убавилось. Иван Евсеевич каким-то образом взобрался на подножку вагона, проник в купе и, прыгая за спиной художника, будто из автомата, очередями выстреливал слова:
— Миколка, родный, я ж все глазыньки проглядел, тебя поджидаючи… Вот заживем, картины сотворим… Историю и новоявленную молодь землицы… Я-от, бывалочи, аще молодой када был, иду от Раисы и всю, кака есть, землицу чую под ногами… От… и — до…
Николай улыбался, краем уха слушая болтовню старика, торопился выгрузить багаж и успеть выйти из вагона.
— Ты, Иван Евсеевич, иди к выходу, а то скоро поезд тронется. Я-то помоложе, успею выскочить, а ты поедешь дальше.
— Счас, родный, счас. Иду уж…
Николаю и в самом деле пришлось соскакивать почти на ходу.
Увязывали добро на багажник жигуленка, часть уместили внутрь машины и скоро прибыли к дому Данилы и Евдокии.
Время было утреннее, Евдокия собирала на стол, мужики с удовольствием пили квас, которого в этом доме всегда заваривалось вдосталь.
— Рассказывай, сынок, где был, что делал, как там супруга, дети? — спрашивал Данила Афанасьевич, с удовольствием оглядывая похудевшую фигуру сына.
— Вот-вот, Миколка, сказывай как на духу: че делал, куды ходил, посправнела ли супружница Людмила, здоровы ли детки? — приступал и Воробей.
— Все здоровы и — ладно, — вставила свое Евдокия. — Это главное, да чтобы было на что жить.
— Я, мама, им денег оставил достаточно — картину продал, лучшую свою картину.
— Какую ж?
— «Беловы», в общем ту, на которой представлена вся родова Беловых.
— Да что ты, сынок, эт же все одно, что икону из красного угла избы продать, — повернулся к нему Данила Афанасьевич.
— Э-эх, Миколка… — ахнул где-то сбоку и Воробей.
— Успокойтесь, я написал другую — лучше той. Глубже, осмысленней. А та ведь писана была под первым впечатлением от всего, что встретил здесь в Сибири, что узнал о своей родове. Незрелая… Эта лучше, ближе к истине, и в целом я вполне удовлетворен. Да и дыры финансовые заткнули — француз хорошие деньги дал. К тому же, кажется, француз разбирающийся в живописи, искренне интересующийся всем, что касается прошлого, настоящего и будущего России. В хорошие руки попала моя работа.
— Ну и добро, сынок, — примирительно сказал Данила Афанасьевич. — Может, так-то оно и лучше.
— Лучше-лучше, — поддакнул следом Воробей. — Миколка знат, че делат… Он, Афанасьич, корня-то беловскага, мозговитый… Я-от завсегда старался своей Раисе сделать как лучше…
— Остынь ты, старый балабон, — одернул старика хозяин дома. — Вот съедете на выселки, там и трещи без умолку… Сынок-то, небось, соскучился по твоей болтовне, а мне ты надоел хуже горькой редьки.
Отвернулся, пряча улыбку.
— Стосковалси, спириживалси я, Афанасьич, думал, не доживусь до светлого денечка — мало мне осталось топтать белый свет…
— Ты еще всех нас переживешь, старый торопыга…
— Аче?.. До сотни годочков, пожалуй, дотяну. От… и — до…
Воробей привстал с табуретки, по своему обыкновению выпятил тощую грудь.
Тут уж заулыбались все.
— Живите, Иван Евсеевич, нам на радость, — пропела Евдокия. — Вы полноправный член нашей семьи. Вот и с приездом сыночка семья наша снова прибавилась. Поживете денька два-три, там и на выселки съедете.
— Не-э, Евдокиюшка, тама у меня конь Туман, курочки-касатки, собачки, кто ж за имя будет ходить? Пантрет Раисы, на коий гляжу кажное утро. Не-э, милая…
— И — правда, Евсеич, сегодня на выселки и поедем, — заключил Данила Афанасьевич.
— Да что ж это вы… — всплеснула руками хозяйка.
— Все вместе поедем, там и поживем с тобой этих дня два-три.
— Только ты, отец, костюм свой парадный возьми — с орденами и медалями. Совместный портрет ваш с матерью напишу.
— А надо ли, че нас писать-то?
— Надо. Давно примериваюсь.
Евдокия стала собирать съестное, Николай помогал матери, попутно отвечая на ее вопросы. Данила прошел в гараж, что-то вынес оттуда, уложил в машину. Следом несла сумки и Евдокия.
Примерно через час, приняв в себя людей, до отказа набитая разным добром машина отъехала от дома Беловых в сторону поселка Ануфриево, а там и до выселок.
Вместо трех дней старшие Беловы прожили на выселках целую неделю. Сын на этот раз решил сделать портрет своих родителей и с утра до вечера, с небольшими перерывами на обед и отдых, Данила и Евдокия позировали художнику. Мать он попросил надеть старинную кофту и длинную юбку — вещи эти он прихватил с собой из Москвы, а взял их у одного знакомого фольклориста и собирателя старины. Отец был в пиджаке, при всех орденах и медалях, в хромовых сапогах, голенища которых были собраны в гармошку.
Родителей Николай изобразил сидящими на лавке у стены, будто поджидающими дорогих гостей, а перед ними — стол с дымящимся самоваром, вкруг которого кружки с блюдечками, вазочки с вареньем, кусочками сахара, чашки с пирогами, хворостом. Слева, в красном углу избы, — образ Богоматери с Младенцем Иисусом на руках. Под ним — тумбочка, на ней — прикрытая полотенцем гармонь. Справа — край деревянной кровати с высокой подушкой. На полу — домотканые половики. Над сидящими уже пожилыми отцом и матерью — портрет на стене в темной раме все тех же родителей, только молодых. Он — в линялой гимнастерке с орденами и медалями на груди, она — в светлой кофточке, в густых темных волосах — гребешок.
Долго что-то у него не получалось, но в конце концов сказал, откладывая кисти: